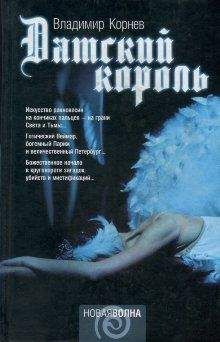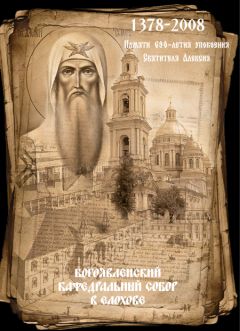— Какая рука? — художника точно током ударило. — Так вы считаете, что генерала… я убил?! Выходит, можно без доказательств предъявлять человеку такое обвинение? Вспомните: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…».
— Только не вздумайте объявить себя Федором Ивановичем Тютчевым и симулировать помешательство — со мной этот фокус не проходит. А доказательства будут, не сомневайтесь! — уверенно ответил следователь. — Но сначала объясните мне, «товарищ народный мститель», на что вы все рассчитываете? Объявили войну Царю и его слугам, решили уже, что Империя — колосс на глиняных ногах, пальцем ткнете и развалится? Лжете, сами себе могилу роете! Вы же на самое святое в русской душе замахнулись — на Бога и Его Помазанника, на вековые устои наши от времен Владимира Святого! Не выйдет, господа-атеисты: Бог-то поругаем не бывает! Вам России не одолеть, это не Европа, где вам, мерзавцам, готовы рукоплескать — здесь еще есть честные патриоты, такие как генерал Скуратов-Минин, Царствие ему Небесное, и Господь укрепит их в правом деле защиты Отечества от внутренних врагов! Молчите? Где же ваш «обличительный пафос» — язык проглотили?
«Что ему возразить? — Сеня пришел в совершенную растерянность. — Он все равно меня сейчас не услышит! Он глух сейчас в своей безусловной правоте, одержим правым гневом, я для него — фанатик-смертник, враг веры и морали. Бесполезно доказывать, что все иначе, — у него есть какие-то веские основания считать именно так, но какие? Где и чем я мог себя запятнать, Господи?»
Следователь помолчал, переводя дыхание, приводя в покой нервы, потом продолжил в том же духе, поблескивая стеклами очков и глядя прямо в глаза допрашиваемому:
— Думаете, мы не знаем явок ваших «соратников», думаете, неизвестно, с чьего голоса вы поете, какие у вас каналы связи, типографии, партячейки? Многих обезвредили, повырывали жала, остальные на очереди. Скажите только, откуда в вас такая нелюбовь к ближним и зависть к материальному богатству? Вы ведь дворянин, кажется? Считайте, что в прошлом… Наверное, котятам в детстве живьем головы откручивали? Признайтесь, проводили занимательные анатомические опыты: искали душу и не находили.
Арсений содрогнулся: «А ведь Иван когда-то забавлялся этим! Вот так и зарождалось то. что потом его погубило. Как все это было гадко, отвратительно, и никто его не остановил тогда! Да, он с детства был жесток до сладострастия…».
Допрос становился невыносимым. Сеня понимал, что из подозреваемого превратился в обвиняемого, а смириться с таким фактом, разумеется, не мог:
— Я вижу, для вас уже все ясно, но это несправедливо… Погодите, господин следователь, вы ведь говорили о каких-то доказательствах моей вины — где же они?
Слуга правосудия точно только и ждал этого вопроса. Он порывистым движением выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда кусочек атласного картона, напоминавший с расстояния маленькую пасьянсную карту, нагнулся через столешницу к застывшему напротив арестанту, жестом завзятого игрока перевернув ее, метнул на зеленое сукно лицевой стороной вверх и тут же торжествующе-уничтожающим взглядом уловил первую реакцию Арсения:
— А что ты на это скажешь?!
Сеня увидел перед собой визитку с переплетенными литерами «К» и «Д», которую и во сне бы узнал:
— Моя визитная карточка, несомненно!
— Итак, визитка точно твоя — хорошо, что не отрицаешь. Откуда она у нас, тоже догадываешься?
— П-понятия не имею! — художник обескураженно смотрел на следователя. Тот побагровел, нажал какую-то кнопку на столе:
— Ну ладно, Десницын! А у тебя, оказывается, память девичья — учтем! Тогда я сам расскажу тебе, мерзавцу, откуда. У нас есть показания генеральского камердинера. Старик был так напуган убийством своего барина, что несколько дней из дому выйти боялся, а потом все же явился прямиком к нам с любопытнейшей информацией, скажу я тебе. Покойный-то накануне своего злополучного моциона посылку получил от некоего господина. Господин этот, видно, был наслышан, что у генерала есть, так сказать, «одна, но пламенная страсть» — восточные ковры, ну и решил наш доброхот его «порадовать», благо от природы обладал отменным художественным вкусом, и прислал в подарок один редкий экземпляр…
В этот момент дверь открылась, и ражий детина — жандарм занес в комнату толстый, длиной примерно в сажень[268], рулон:
— Прикажете развернуть, ваше благородие?
Следователь утвердительно кивнул, жандарм встал на табурет и, прикрепив свободный край рулона к прутьям оконной решетки, опустил его так, что тот, развернувшись, демонстративно свесился до самого пола. Арсений обомлел — громоздкий сверток оказался изумительно красивым персидским ковром ручной работы. У художника даже невольно вырвалось:
— Да ему, по меньшей мере, лет двести! Именно такие плели тогда в Герате[269] — видите этот характерный плотный узор? Великолепный образчик стиля!
— Ого! Вот что значит истинный профессионал своего дела! Впрочем, этого следовало ожидать… Ну, не будем отвлекаться. Так или примерно так восхищался и генерал Скуратов-Минин, рассмотрев роскошный сюрприз. Он долго любовался ковром, после чего велел повесить у себя в спальне, что немедленно исполнили. Ночью же обнаружилось нечто, от чего генерал так и не смог уснуть… Я интересно рассказываю или уже скучно стало, «товарищ»?
Арестант медленно перевел восхищенный взгляд с ковра на следователя.
— До чего же увлекающаяся натура у вас, живописцев! А сейчас будет самое увлекательное.
Следователь поднялся из-за стола, отключил электричество. Потухла настольная лампа, погасла тусклая лампочка под потолком, но комната не погрузилась во мрак — источником света стал уникальный ковер. Вернее, портрет на ковре: прямо поверх восточного орнамента, подобно фотографическому негативу, мертвенно серебрилось изображение гроба, в котором, обложенный лилиями и нарциссами, облаченный в парадный мундир, при орденах и муаровых лентах гордо возлежал генерал Скуратов-Минин! Портрет был выразительнейший, можно сказать, зрелище не для слабонервных — багровая звезда ордена Александра Невского зияла кровоточащей раной в груди. Дознаватель резко включил свет, ковер опять приобрел прежний замысловатый орнамент, а слуга закона впился взглядом в расширившиеся зрачки обвиняемого:
— Что, и дальше будешь ваньку валять?
— Я ничего не понимаю! Черная мистика какая-то… И вообще, при чем же тут моя визитка?
— Нет тут никакой мистики, и ты это прекрасно знаешь, скотина! — вне себя от гнева прокричал следователь. — Ты сам завернул визитку в ковер, и адрес обратный на посылке значится твой, Десницын! Каков наглец — еще отпираться смеет! Покойный сам бы тебя нашел, жаль, не успел. Ну, ничего! Нам еще о многом предстоит побеседовать, не он. так я из тебя душу вытрясу.
Арсений стал уверять, что со Скуратовым-Мининым даже не имел чести быть знакомым, а портрет исполнен, скорее всего, симпатическими фосфорными красками, которых он в России никогда не встречал, так что писали, вероятно, где-то за границей.
— Опять врешь! Мы вчера как раз провели обыск в твоей мастерской и обнаружили там светящиеся краски в большом количестве. Уж не сам ли их готовил?
— Разве как художник я уже не имею права заниматься творческими изысканиями, господин следователь? — ответил вопросом на вопрос обвиняемый.
— Откуда ты взялся, самородок такой? Биография у тебя темная: даже курсов живописи не оканчивал, не то что Академии, — нам долго выяснять не пришлось. Получается, что ты парвеню, Десницын, а явно работаешь на заказ. Скажи-ка, кому в последнее время раздавал визитные карточки?
Никаких сколько-нибудь серьезных заказчиков, кроме Звонцова, Сеня до сих пор не заимел, визитки предназначались для тех редких случаев, когда у него, человека по природе довольно замкнутого, одинокого, вдруг возникало какое-то знакомство, поэтому ему не пришлось ломать голову: он прекрасно знал, что одну карточку он вложил в букет Ксении, а другую — в рождественский подарок, но бросить тень на это неземное существо своим признанием — на подобную низость Сеня не пошел бы ни при каких условиях. Сам он готов был терпеть любые унижения, но ставить в унизительное, двусмысленное положение еще кого-то считал для себя абсолютно неприемлемым. Так, когда в начале января у него пропал из мастерской пейзаж, принесенный для реставрации Вячеславом, он даже не подумал заявить об этом в полицию — скольким людям его поступок мог принести неприятности! Поэтому сейчас, услышав вопрос дознавателя, художник только молча опустил голову и уставился в пол.
— Ты кого выгораживаешь, такую же идейную дрянь, как сам или как твой братец? А ведь он с эсерами дружбу водил, только ради их грязных денег! Перестань играть в благородство, Десницын, говори по-хорошему, хотя бы отчасти искупишь свою вину!