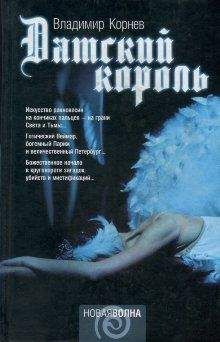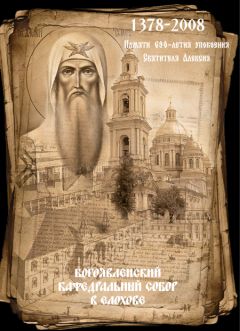— Ты кого выгораживаешь, такую же идейную дрянь, как сам или как твой братец? А ведь он с эсерами дружбу водил, только ради их грязных денег! Перестань играть в благородство, Десницын, говори по-хорошему, хотя бы отчасти искупишь свою вину!
— Мне нечего говорить — я невиновен.
У следователя задергалась щека. Он бросил детине, видимо, только и ждавшему этой минуты:
— Приступай, Угрюмов!
Угрюмов в гимнастерке без знаков различия деловито, по локоть, закатал рукава, распоясался, намотав ремень с тяжелой солдатской бляхой на руку, и тут же двинул арестованного пудовым кулаком-кувалдой в солнечное сплетение. С виду совсем не атлет, первый удар Арсений выдержал — когда-то занимался гирями.
— Еще!!! — проревел следователь, глаза которого налились кровью, как у испанского быка. Детина невозмутимо повторил удар — он действовал как таран. На этот раз Сеня почувствовал во рту характерный терпкий привкус, но, на удивление, то был не тошнотворный вкус крови, а сладостный аромат церковного вина, явственно-живительная, такая знакомая теплота. Художник устыдился, даже испугался кощунства навязчивого сравнения, он точно бы только что приобщился Святых Христовых Тайн! В глазах звездной пылью рассыпались искры, однако на ногах он удержался и боли почему-то не почувствовал. «Что это. Господи? Как я мог оказаться здесь, к чему такое испытание?! ТЫ ничего не посылаешь просто так». Арсению представился дерзостный лик Николы и другой образ — единственной неземной женщины, посещавший его во снах, которой он назначил встречу. Тогда он не предполагал, что именно в воскресенье придется ехать на Шпалерную, а тем более этот нелепый арест. «В ее глазах я теперь банальный обманщик, такой же, как другие поклонники-пустословы, как авантюрист Смолокуров! И может быть, нам больше не суждено увидеться… Грешен, Господи, но не лишай меня надежды, ибо…»
— Опомнитесь! Вы не ведаете, что творите! Не делайте ближнему своему, чего не желаете себе.
Крик Сениной души прервал следователь, который к этому времени потерял всякое терпение и не мог уже сдерживать себя:
— Вот ты какой! Проповедником прикинуться решил. А какую заповедь ты исполнял, когда курок спускал? Ты — внутренний враг, Десницын, и пощады не жди! Это юродство тебе еще дороже обойдется. Эх, Угрюмов, не узнаю тебя, разве так бьют? Дай-ка я сам! — Он скинул свой твидовый пиджак, ослабил узел галстука и, расстегнув верхнюю пуговицу сорочки, схватил тяжелую, с металлическим наконечником трость. «Этот знает толк — убьет в два счета… А может, и жить теперь незачем?» — успел подумать арестованный, прежде чем дознаватель-спортсмен принялся яростно дубасить его по чему попало: крушил ноги, руки, спину, шею. Десницын чувствовал себя мячиком для лаун-тенниса. Боли по-прежнему не было, хотя сознание начинало уходить. «Теперь — волю в кулак, не сметь сдаваться! Бог в правде — Высший Суд сильнее человеческой ярости!» Он видел свое отражение в линзах пенсне, казалось, что это чужое лицо корчится в муках.
— Убью, мразь! — доносилось до его слуха. — Закон нарушу, но убью… Господи, прости, Твоего врага караю!
Последние слова подхлестнули Арсения, он протестующе замотал головой, процедил сквозь зубы — язык плохо повиновался:
— Н-нет! Не враг… 3-за что… Ничего не знаю…
Следователя беспримерное упрямство «изобличенного боевика» распалило еще сильней, и он саданул тому прямо между глаз тяжелой свинчаткой. Радужные круги вращались в голове Десницына, искры теперь уже бесконечным роем взвились в пространстве, и он кружился в этом иссиня-черном, озаряемом вспышками блуждающих огоньков, космосе. Тело его плавно приняло горизонтальное положение: «Где я — на кровати, на тюремных нарах?» Он открыл глаза и увидел ослепительный свет, потом, когда зрачки привыкли, — лицо хирурга и отражение оперируемого тела в его круглых очках. Кровавые белки глаз хирурга сливались с кровавым месивом трепанируемого черепа. Художник завороженно наблюдал за тем, как бьются радужные жилки нежно-розового студнеобразного вещества — мозга. Что-то там шевелилось, пульсировало, плясали в его глазах зрачки хирурга, блестели инструменты. Бесплотные создания роились перед застывшим взглядом Арсения — изящные, грациозные фигуры, поистине беспорочные ангельские лики, словно бы крылатый сонм слетелся с византийских фресок или с полотен Боттичелли. Он сам не чувствовал плоти, было такое ощущение, что все это происходит с кем-то другим, с чужим телом. Неведомый врач спасает неведомого ему человека, а душа Арсения витает вокруг, наблюдая за операцией, готовая вот-вот переместиться в другую точку мироздания, в иную ипостась. Сеня испытывал ни с чем не сравнимое блаженство: «Так, наверное, бывает только там, „идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание“[270]».
Наконец на какое-то время вспышкой кошмарной реальности вернулось сознание, а с ним пришла и едва выносимая боль. Десницын с трудом понял, что он на допросе в тюрьме. Перед ним стоял следователь, вытирая мокрые красные (то ли в поту, то ли в крови?) руки белоснежным полотенцем. Переводя дух, следователь брезгливо распорядился:
— Ну будет, а то, пожалуй, еще одного страдальца за «свободу» сотворим. Эти мерзавцы только и мечтают получить лишнюю каплю крови на багровое знамя революции… Теперь самое время в карцер, пока не образумится — авось не сдохнет.
Полуживого Сеню утащили в карцер. «Я в каменном мешке, и выхода отсюда нет, воздуха тоже…» — таков был последний проблеск мысли. В тот же миг жуткая явь опять сменилась блаженными видениями. Теперь память, этот волшебный фонарь, дарила ему такие дорогие, казалось, давно забытые картинки детства. Вот он на вакациях[271] после первого класса гимназии переплывает старый маленький усадебный пруд, среди кувшинок и лилий, разводя руками ряску и ему кажется, что где-то в таинственной глубине омута живет водяной с длиннющей зеленой бородой из водорослей, в окружении лягушек и карасей, но восьмилетнему мальчику, который никому на свете не желает зла, незачем бояться водяного — пусть худые люди боятся… Вот Сеня на веранде прадедовского дома, рубленного из сосновых стволов — бревнышко к бревнышку, с гладко отполированными, как кипарисная шкатулка, стенами, свернулся калачиком в плетеном ивовом кресле со своей первой книжкой — «Сказками Кота Мурлыки»[272], что-то рисует в ней красным карандашом, из гостиной доносится рояль — маменька играет Шумана, ее любимые «Грёзы», а солнце уже садится за лес, и последний луч играет на цветных стеклышках веранды… Вот отец собирается на охоту с соседом — отставным поручиком-измайловцем, поправляет бельгийское ружье, которым особенно дорожил, ягдташ и говорит, улыбаясь, на прощанье: «Ну, жди трофей, Арсеньюшка, завтра непременно вернусь с косачами!»[273] Вот нянька наливает из высокой муравленой[274] кринки парного молока: Сеня пьет, белое молоко капает на пол, нянька знай рассказывает про какую-то Калечину-Малечину лесную, а он со страху забирается под стол и оттуда слушает, затаив дыхание… Вот и матушка садится на край его кроватки, читает на сон грядущий житие святого мученика Арсения, потом зажигает лампадку в углу перед Скоропослушницей, после чего широко крестит сына, ау того уже веки слипаются… Наконец, вспоминается первое Причастие — что мог запомнить младенец? — а вот представилось явственно: жарко горящие свечи в паникадиле, перед иконами, серебряная лжица в руке деревенского батюшки, «Тело Христово примите…» — с клироса, сладкая теплота во рту, а наверху, в Пантократоре, да нет — прямо на облаках! — «Спас в Силах», исходящий от него Свет Неизреченный!
Когда Десницын очнулся, с четырех сторон были все те же глухие стены карцера, сырая духота, пронизывающая тело боль, но зато сквозь это торжествующая мысль: «Жив, Господи! Какой ни есть, а живой!» и внушающий неколебимую надежду молитвенный стих: «Аз есмь с вами, и никто же на вы!»[275]
«Откровение» в храме и эта нежелательная встреча с князем не способствовали плодотворной, вдохновенной репетиции. Во-первых, выяснилось, что в «золотом» свертке был резной деревянный ларчик.
что удивительнее всего, очень похожий на последний дар Тимоши — с именем «КСЕНИЯ» на крышке. Не веря своим глазам, балерина сравнила оба подарка, и странный факт полностью подтвердился: шкатулки точь-в-точь, каждым мелким завитком резьбы, повторяли друг друга. Их, без сомнения, сработала одна рука — покойного краснодеревца, только княжеский дар еще источал сладковато-ладанный дух, дух свежей смолы и, казалось, даже хранил в себе тепло рук автора — вещица-то действительно была сделана будто бы вчера. Это не поддавалось никакому объяснению. Девушка осторожно взяла новую шкатулку: хотя на вес чувствовалось, что она не пустая, все же открыть ее не осмелилась, а отставила в сторону — подальше от глаз.