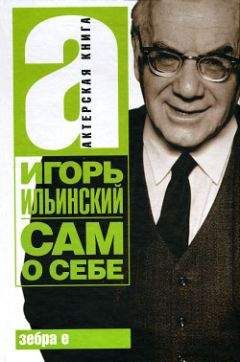анафему, а не стал – видать, не дошел еще тот указ до Москвы окончательно, хоть и слышали о нем уже многие. Зато речь префекта академии хороша была, заслушался Еремей. Префект по должности и по совести надгробное слово сказывал и немалое к тому усердие применил. Упрекал он громогласно народ московский за изобильные суеверия и за противление матери нашей, Православной церкви, и за многие другие грехи, имя коим уныние, леность, алчность и скопидомство.
Хороша была та речь, одно только угнетало Еремея: были вокруг чернецы да послушники, еще какие попики из приблудных, солдат тоже стояло немало с офицерами и господа сенаторы, и купцы первостатейные, даже кто из мещан богобоязненных, да вот не слышал речи этой сам народ московский, не пришел он проститься с архиепископом – не желал каяться, упорствовал. Но, сказали Еремею (стояли среди челяди монастырской дружки его прежние, с лицами полузнакомыми, но архиерейских посещений отца Иннокентия не забывшие), и это поправят, заранее вышло именное распоряжение: отпечатать слово надгробное на языках российском и немецком, и в широкое распространение пустить. Удивился, Еремей – отчего ж тебе и на немецком? Тут уж собеседник изумиться решил – неужели до сих пор Еремей, впрочем, что с него, служки-то слободского взять, не понимает тонкой политики? Высоко смотрит наша власть, далеко видит.
«Я уже имела несчастье писать вам о продолжающейся в Москве эпидемии прилипчивых болезней. По большей части это гнилые горячки, злокачественные, с пятнами и без. Печально сознавать, что тамошние власти не проявили должного усердия для выполнения моих вполне определенных инструкций. Да, представьте, среди моих слуг есть и нерадивые. Обыкновенность эта известна многим монархам и трудно устранима в любом государстве. Население московское, к сожалению, подвержено бездне суеверий и сопротивляется гигиеническим мерам, декретированным врачебной комиссией, что была предупредительно создана моим указом еще несколько месяцев назад. Особенно же прискорбно, что люди необразованные склонны во всех посланных им Богом несчастьях винить власти, а не собственное нерадение. Вот и на этот раз отдельным преступникам удалось посеять смуту среди простого люда, чрезвычайно усиленную тем тяжким положением, в котором оказалась Москва, а это, должна вам сказать, особый мир, а не город.
Испытывать чересчур большую тревогу по этому поводу отнюдь не нужно. Немедленные и решительные действия группы ревностных чиновников позволили обуздать бунт в самые короткие сроки, однако, увы, не обошлось без жертв. Больше всего я грущу о московском архиепископе, человеке рачительном и просвещенном, показывавшем своими действиями пример всему российскому духовенству и от того бывшем мишенью для людей косных, возможно, алкавших его смерти. Нечего и говорить, что в отличие от лиц светских, он не обладал значительной охраной и потому оказался уязвим для распаленной толпы, которая умертвила его самым бесчеловечным образом. Такова участь лучших, и нам теперь остается только молиться о душе несчастного. Впрочем, мне сообщают, что все зачинщики и исполнители сего гнусного дела задержаны и что в их отношении неизбежно точное следствие и справедливое возмездие».
Вчерась интересно было. Никогда такого не видывал, чтобы народ сам на рожон лез, кроме как по воинскому делу, а, Василий? Купчики явились, торговые люди, настоящие, из старомосковских, тех, что медленно думают, да быстро делают. Чисто одеты, выбриты, сапоги смазные, картузы на локотках держат. Четверо сзади, один, самый старший – спереди. Депутация, одним словом. Степенно держались, без подобострастия. Старший, правда, не мастак оказался говорить, все время с запинкой, ну так остальные ему без обскоку помогли, быстро разобъяснили. И ведь верно предложили, что удивительно. Сами, говорят, создадим особые комиссии по надзору за болезнями, из своих людей. И платить им будем, и следить станем. Видим, дело вы, власти, значит, делаете большое, но только не управиться вам. Вот написал, и даже самому удивительно. А когда сказали – аккуратно, без экивоков и политесу, – то понятно было, прозрачно, как стекло. Так даже если что, подписался бы самолично и наверх собственноручно бы отослал. «Нам-то больше поверят, – говорят купчины, в кружок стриженые, – мы-то для них свои».
Ну, ладно, теперь докладать надо. Тем боле, согласен – значит, не трусь. Вошел в кабинет, поклонился. Вокруг – от мундиров тесно, генерал-поручик еле на ногах стоит, но тоже во фрунт тянется. Изложил графу купеческую пропозицию. А у него уже на столе бумага лежит, о Комиссии для предохранения от язвы, чтобы туда врачей и служилых людей государевых вместе посадить и все дела вершить. И мое там стоит фамилие посреди прочих – да, дорос до чести великой…
«И, – говорит генерал-фельдцейхмейстер раздумчиво, – надо бы туда из уважения к памяти благочинного и чтобы оказать респект пастырям нашим – так государыня всегда выражаться изволит – поместить вот настоятеля собора Успенского, отца Александра, например. Почтенный служитель, вельми уважаем паствой за скромность и душевность нрава. А старшего из купцов-то этих как звать-величать?» Кто-то наклонился, подсказывает. «О, это имя в Москве тоже весьма известное, – кивает граф, – ума не приложу, кто ему донести успел, – вот и его, пожалуй, внесем, пусть нелживо свидетельствует мещанам и торговому люду о полезности твердых предписаний и о строгих карах за уклонение». Удивился генерал-поручик, он там за председателя стоял, но прекословить не осмелился и тоже руку приложил. Пущай будет купец, авось помехи не составит.
Я читал приказ комиссии довольно безучастно, я был просто обязан его прочесть по служебному положению и, подчеркну, по своему врачебному долгу. Впрочем, было еще одно соображение: окольными путями мне в руки опять попало письмо петербургского соотечественника, на этот раз с просьбой подробного рассказа об эпидемии. Упомяну здесь, что события последних месяцев плохо сказались на моих делах, поэтому вознаграждение, подобное прежнему, могло прийтись очень кстати. Мешало одно – отсутствие сил и времени. И тут подвернулся указ новообразованной комиссии, в которую я, конечно, не особенно верил. Можно было просто сделать копию и разбавить ее несколькими собственными суждениями – да, это небрежение, но ведь никому не вредное, и кроме того поступок вовсе не бессовестный, а совершенный во имя собственной семьи. Увы…
Вернусь к главному. Казалось, поименованные меры были все теми же, а излагавший их язык по-прежнему неудобоварим – даже самое страшное бедствие не в силах изменить стиль официальных документов, но мне на глаза сразу попалось несколько нововведений. Для начала – тем, кого выпишут из больниц и карантинов, обещались немалые деньги, пять рублей холостым и десять женатым, а кроме того, новая чистая одежда. А дальше было еще удивительнее: «Тем же, кои о мором пораженных, но ни своей, ни других