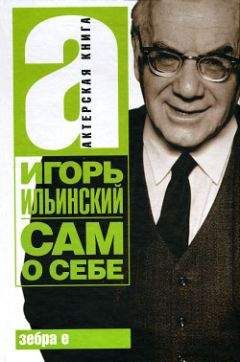больнице той, куда он к полудню доковылял, и не лежало там чумных, а только если с простой лихорадкой, и числом немногие, да и те по большей части выздоравливали. Удивились фельдшера, увидев Еремея, перевязали, дали отлежаться. Немногие к ним сейчас приходили, особенно после бунта, боялись, что полиции выдадут, или еще чего. Не стал им объяснять Еремей, почему не боится, только поклонился в пояс и, уходя на другой день, перекрестил длинное кирпичное здание с высокими полукруглыми окнами.
Ай-ай, беда, беда, какие свалились на столицу неприятные новости, словно гром среди ясного неба (так, кажется, правильно будет по-русски?). И отнюдь не обошли они кабинет почтенного коммерсанта. Оказывается, в старой столице произошел страшный бунт! Как обычно, безобразие случилось по нерадению местных властей, которые чрезвычайно дурно исполняли санитарные меры и к тому же не потрудились разъяснить населению их несомненную пользу и необходимость. Вместо этого все свелось к выпуску нескольких строгих, но плохо соблюдавшихся указов, к тому же донельзя раздраживших народ, и без того неспокойный от обыкновенных в это время года природных бедствий.
В довершение многие должностные лица (и, увы, как это ни невообразимо, сам губернатор) сбежали из города при первой возможности, бросив его на произвол судьбы. Ну, уж кто-кто, а образованный мистер Уилсон знал, что даже история древнего Рима, государства наивысшей степени организации, однозначно свидетельствует: нет ничего страшнее, нежели возбужденная и неуправляемая толпа. Впрочем, знал он также, что подобные возмущения, как бы они ни были кровопролитны, имеют обыкновение быстро затухать, тем паче если столкнутся с крепкой государственной волей. А в последнем у него никаких сомнений не возникало, ибо говорили, что в Москву уже введены регулярные войска и что преступные банды, поднявшие голову по недосмотру тамошних полицейских, рассеяны и переловлены.
Но что несло особенную неприятность – это уже совершенно достоверные сообщения о заставах, которые правительство теперь действительно было вынуждено учредить на всем пути из Москвы в Петербург. Здесь он, увы, ошибся. Ни о каком временном карантине речи не шло – не менее шести недель, а то и до двух месяцев! И чтобы подорожная в полном порядке. Ах, слишком хорошо знал почтенный коммерсант русские обычаи. Вставали на пути необыкновенно выгодной сделки шлагбаумы с постовыми, нечистые на руку караульные начальники, удлинялся и удорожался путь товара, которому уже были – и какие хорошие, какие верные! – европейские покупатели.
«Найдена мною Первопрестольная в полном раздрае, а власти здешние – в невиданном упадке. Оно даже странно, как нынешняя беда раньше не грянула, право слово. Несмотря на указы высокой комиссии, меры были приняты половинные, а и те не выполнены. Одно слово, разгильдяй на разгильдяе! О губернаторе лучше умолчу: уехал в имение, вернулся только после тягостных событий, все пропустил, и в умиротворении, ныне по городу вполне наступившем, его заслуги нимало нет. Думаю, отпустить его обратно в деревню, на покой. И о том довольно.
Особенно охвачен унынием местный народ, доходит и до отчаяния, даже среди дворян, что уж говорить о мещанах и прочих. Последние остатки разума потеряли, косностью больны и ни к каким предосторожностям не способны, а многим от властей извещаемым разъяснениям нисколько не верят. Генерал-поручик, впрочем, деловит и помощь мне нужную оказует. Цифры сказывают, что за последние дни меньше народу сгинуло, но не знаю, можно ли сему верить.
Думаю установить тем дохтурам да лекарям, кто в санитарных отрядах и карантинах, тройное жалование, и пообещать, что в случае смерти их семьи получат значительный пенсион. Прошу одобрить. Еще донесли мне, что ни в университете, ни в Доме Воспитательном – а там одни малые сироты – мертвых вовсе не было, потому что они больных в свои стены не допускали, а вещи и даже пищу в уксусе мочили и дымом окуривали. Так что распорядился я о выдаче уксуса бесплатной и повсеместной, хотя бы для больниц, людям же за малые деньги. Думаю, и в Тверь за ним послать, аще не хватит.
Спасем ли город, не знаю, но силы положу последние и запоследние. Со щитом или на щите, как древние греки рекли. Завтра созову докторов да хирургов, потребую от них отчета и строгих ответов. Следствие о бунте и смертоубивстве благочинного уже учредил и допросы начал. Поверишь ли, матушка, солдаты кремлевские тоже в грабеже замешаны. Не знаю, сыщем ли всех, хотя друг на друга показывают охотно и многие каются».
Кончена жизнь, ах, кончена, и вовсе ведь не во славе. Да как получилось такое? Словно сон дурной, ан нет – не проснуться никак. Слаб человек, грешен, но как вышло, что все напутал, что дезертировал – себя опозорил и предков до незнаемого колена, нет мне прощения.
И, как назло, нужно же было сразу случиться разбою этому. Был бы на месте, не хуже остальных справился. С ворьем воевать – дело привычное, мы бы здесь никому не уступили, еще быстрее бы город очистили, тысячекратно закидали бы гнилую скверну горячим щелоком. А теперь – все. Господи, объясни, где ошибся я, отчего оплошал, помилуй меня, недостойного, если сможешь. Нет, не простит, и сам бы я себе не дал отпущение. Так ведь не одни же грехи в зачет пойдут у апостола… Ах, гордыня, гордыня, уймись же ты наконец, не гони меня жалом острым в темень адову! Только молиться, только молиться остается. Прими меня, Господи, услышь сердечное послание стариковское, поскорее прими меня в лоно Свое!
Тонко ухватил его сиятельство суть дела. Не долго разбирался, сразу сердцевину ущипнул, без промаха. Правильный приказ, выполнять – одна радость, с душевным теплом печати ставил на предписания и отправлял за господами эскулапами наряды караульные. Пусть-ка ответят, сукины дети, наконец, – никак не добьешься от них простого русского слова – чума это или нет и как ее, мамочку, прижечь хорошенько, до пепла летучего и угля черного. И почему ж столько народу по слободам мрет – от толчеи, что ли? Чем курить, как вымачивать, что в огонь кидать?
Всех соберем, никто не укроется, и запись проведем наивернейшую, потом не отопрешься. Как на суде монаршем, точнее, на следствии – только что без известных орудий. Пожалте, господа всезнайки, расплетите языки и извольте говорить прямо и с надлежащей артикуляцией!
140. Окончательный ответ (продолжение третьей тетради)
Лицо председателя высокой комиссии показалось мне до странности знакомым. Крупная нижняя челюсть, распахнутые глаза, мощный нос, породистый рот, гордая осанка, распирающие мундир плечи, но