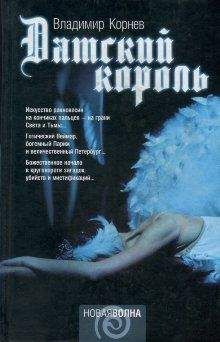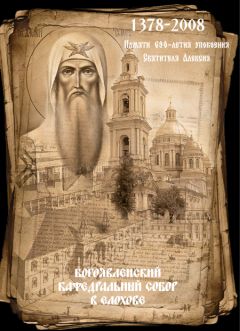Г-н Кричевский, истинный патриот-петербуржец, вспомнивший незабвенные строки нашего гения о „любви к отеческим гробам“, будучи представителем той части российской творческой интеллигенции, которой небезразлична судьба материальных свидетельств величия русской культуры, оказал неоценимую услугу по части возрождения пострадавших некрополей. Благотворитель-созидатель, эстет, знаток и ценитель прекрасного, а главное — исключительно талантливый скульптор-стилизатор, господин Кричевский предложил безвозмездно установить свои лучшие скульптуры взамен утраченных надгробных памятников. Представители известных дворянских родов Империи Российской, потомки тех, чьи захоронения были осквернены, а также авторитетная комиссия, составленная из видных ваятелей-академиков, знатоков петербургской старины, членов объединения „Мир искусства“, в том числе господ Бенуа. Врангеля, Курбатова, Фомина, горячо поддержали подобный порыв творческого и патриотического неравнодушия, стремления помочь нашей прекрасной столице загладить последствия варварских действий. Необходимые работы были проведены. Заслуги замечательного скульптора были отмечены Его Императорским Величеством и Его Высокопревосходительством градоначальником: скульптору присвоено личное дворянство и потомственное почетное гражданство Санкт-Петербурга. Господин Кричевский был также удостоен особой премии Императорского Общества поощрения художеств за вклад в развитие русской школы ваяния и благотворительную деятельность».
Разъяренный Звонцов в сердцах разорвал газету: «Проклятые святоши, моралисты! Хлебом их не корми, дай только повод „назидать“ — мать их так! Обложили меня отовсюду — в Петербург теперь тоже дорога заказана… Будь они все прокляты, и этот жид старый — тоже ведь в дворяне выбился, а если бы не я, до смерти торговал бы гипсовыми причиндалами. Газетчик какой-то странный попался: всегда к вашим услугам, говорит. Какие еще могут быть услуги, если мы с ним никогда больше не увидимся?! Дьявольщина! Тьфу ты — „И вот на чем вертится мир“! И со мной еще, как назло, копье — украденная христианская святыня! Так они и докажут, что убийства совершил я! Да вдобавок обвинят в похищении собственности самих Габсбургов из их родового дворца, и пойди докажи, как все было на самом деле, кто настоящий убийца и вор… А вдруг оно опять попадет к ним?! Тогда расправы не миновать… Господи, ведь уже ничего не исправить!!!»
Он схватил газеты и наконец-то метнул их в окно, но несколько листов, как нарочно, прилипли с обратной стороны к стеклу, а одна газета даже развернулась на самой неподходящей странице. Вячеслав Меркурьевич едва удержался, чтобы не высадить окно, он его и высадил бы наверняка, но в этот момент как раз послышался голос проводника, идущего по вагону:
— Внимание! Поезд прибывает на государственную границу. Прошу господ пассажиров приготовить документы и вещи к таможенному досмотру!
Звонцов понял, что раздумывать больше не о чем и нужно немедленно бежать. Он кое-как надел пальто, взял в охапку свой бесценный багаж, пулей вылетел в коридор и метнулся к тамбуру. Проход был свободен, но тут — о Боже! — из соседнего купе вышел благообразный старичок в сутане, с крестом на груди. Звонцов даже не пытался определить, лютеранский пастор перед ним или католический патер, главное, что это был служитель Христа, а значит… Вячеслав Меркурьевич спешно достал из баула сверток со Святым Копьем и буквально всучил его святому отцу, настойчиво твердя:
— Умоляю, возьмите это! Заберите! Верните в Хоффбург! Слышите? Верните это в Хоффбург, ради Бога!!!
Опешивший пастырь еще боялся посмотреть, что же так неожиданно попало к нему в руки, а Звонцов уже переводил дух в тамбуре.
Поезд, который был в каких-то десяти минутах ходу от пограничной станции, на его счастье притормозил. Открыть двери оказалось несложно, и тогда горе-ваятель, мысленно пожелав себе ни пуха ни пера, прыгнул навстречу полной неопределенности. «А эта проклятая скульптура — для чего же мне теперь? Никаких мертвецов не было и нет!!! — осенило Звонцова в момент полета. — Зачем я рвался сюда, зачем искал ее? Зачем вообще все это?!»
Заставить себя добраться до Мариинского балерине стоило немалых волевых усилий. Казенное кожаное кресло в директорской приемной в тот день показалось Ксении чрезвычайно жестким — раньше она этого не замечала. От сильного волнения ее мутило, сдавливало виски, кисти рук холодели. «Господи, к Тебе прибехох, научи мя творити волю Твою!» — с молитвой на уме, готовая ко всему, Ксения без приглашения вошла в кабинет. Руководитель Императорского театра, напряженно разглядывающий бронзовую лиру — деталь претенциозного подарочного письменного прибора, украшавшего внушительных размеров рабочий стол, завидев приму, едва приподнялся с места и небрежным жестом предложил даме сесть, однако по его забегавшим маленьким глазкам нетрудно было заметить, что визита этого он дожидался с большим нетерпением, балерине же не дал и рта раскрыть.
— Наслышан о вашем недомогании, Ксения Павловна, но, к счастью, вижу, что слухи были слишком преувеличены. Правда, Чайковского вчера пришлось отменить… Впрочем, это не страшно. Сегодня вы выглядите даже лучше прежнего — некоторая бледность вам определенно к липу! Ну-с, теперь о главной причине срочного вызова. Многие зрители (среди них. заметим, весьма важные персоны!) очень огорчены, что спектакль не состоялся, но мы с главой балетной труппы подумали и сошлись во мнении: сегодняшнее «окно» в репертуаре можно заполнить «Дон Кихотом», дабы не пропали билеты на «Лебединое». Не беспокойтесь — для вашей роли уже найдена другая балерина. Мы же вас ценим и понимаем, что партию Китри целиком вам тяжело будет осилить — пять актов, не шутка! — но и вы нас тоже должны понять. Накануне билеты были куплены на Светозарову, так что, Ксения Павловна, придется вам исполнить перед спектаклем «Умирающего лебедя». Всего-то один короткий номер, зато зритель увидит желаемое — свою любимицу, и вчерашний конфуз забудется ко всеобщему удовольствию.
Балерина была обескуражена: логично было бы предполагать строгую нотацию, вплоть до гнева патрона, но она и не догадывалась заранее, что будет поставлена перед фактом — танцевать во что бы то ни стало, независимо, готова она к подобной «импровизации» или нет. Нужно было постараться объяснить, что она еще не настолько хорошо себя чувствует, не пришла в должную форму, наконец, совсем не репетировала и поэтому сложную миниатюру Сен-Санса не сможет исполнить так, как подобает балерине ее уровня. Ксения попыталась робко возразить:
— Но ваше превосходительство, это невозможно…
Директор в ранге действительного статского советника был непреклонен в своем решении:
— Госпожа Светозарова, я настойчиво прошу Вас проследовать в гримерную и готовиться к выступлению, — он демонстративно бросил взгляд на золотой брегет — дар Государя, — Осталось ровно два часа до вашего выхода. Не тратьте время даром — еще успеете порепетировать, войти в образ. Ступайте же!
Ксения поняла, что попала в ловушку, выход из которой один — на сцену. Кому-то из завистников, без сомнения, очень хотелось позорного провала примы Светозаровой на глазах у всей столичной публики — это могло бы означать конец ее блестящего творческого полета. «Пускай мне недостает сейчас собственных сил — нужно тогда во всем положиться на силы небесные!» — подсказывал Ксении голос христианки — души. Вспомнились детские годы: лето на море в Крыму, возле Инкермана, где ее учили плавать. Там было синее, синее небо, кресты древнего пещерного монастыря над головой в высокой отвесной скале и голос отца, наставлявший маленькую Ксюшу: «Не бойся, дочка: ляг на воду свободно, а она сама будет тебя держать, ты только разводи в стороны ручками и ножками. Море доброе!» С этим мудрым родительским напутствием из вечно милого прошлого балерина и «выплыла» на сцену в голубоватом свете софитов под льющиеся звуки виолончели и арфы. Гипнотическая музыка Сен-Санса бережно, точно легкий морской прибой, сама подхватила ее, обволакивая тело и растворяясь во всем существе, увлекла за собой. Но вряд ли кто-нибудь из сидящих в мягких креслах партера и бенуара мог почувствовать малую толику той боли, с которой давались Ксении Светозаровой в этот вечер виртуозные pas de boure[280], эти точечные неслышные касания пола: они лишь с нескрываемым любопытством наблюдали в свои бинокли и монокли за творимым у них на глазах священнодействием танца. Отрешившаяся от реальности балерина, как сомнамбула, подчиняясь роковой мелодии, ступала, подобно андерсеновской русалочке, по остриям лезвий — ей было и больно, и сладко, и, что оказалось поразительным для нее самой, — это не походило ни на одно из предыдущих исполнений маленького французского шедевра. Раньше она всегда страшно переживала, если перед «Умирающим лебедем» исполнялся какой-нибудь мажорный, веселый, почти развлекательный номер (и такое случалось по воле постановщиков). Порой ей приходилось даже затыкать уши и закрывать глаза, искать укромный уголок, какое-нибудь темное место за кулисами, где можно было окунуться в сосредоточенную, нездешнюю тишину, чтобы de profundis[281] услышать первые начальные Сен-Сансовы аккорды, и как же она радовалась, если концерт был выстроен безупречно, так что предшествовавший ее «Лебедю» номер соответствовал необходимой трагической гармонии.