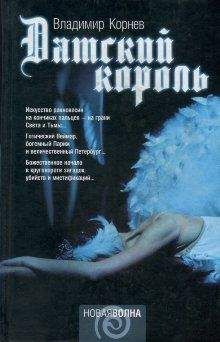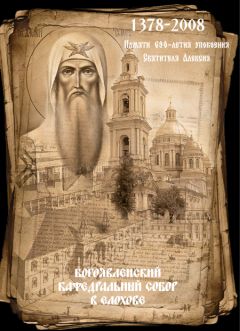В этот раз Ксения не столкнулась с подобным казусом — все-таки выступала первой, но была ведь и другая «благоприятная» причина — сами события, гнетущая атмосфера перед спектаклем определенно настраивала на скорбную ноту. Балерина открыла залу трагедию своей души, собственное состояние — в ее танце не было и малой толики искусственности. Теперь она воистину танцевала самое себя! Сейчас Ксении казалось, что руки существуют, творят свой филигранный, прихотливый рисунок отдельно от нее. Это именно им, рукам, суждено было вышивать по канве импрессионистической мелодии, выпевать непокорную смерти лебединую песнь песней. Иногда в них, гибких и бледных до белизны, чудились клонившиеся к озерной глади шеи величаво-грациозных птиц, и в подобном преображении трудно было понять: то ли эти трепетные руки, стремительно разлетавшиеся и снова сходившиеся в едином порыве, — гордая лебединая пара, ведущая страстно-противоречивый диалог между собой, то ли сама кудесница-балерина буквально обернулась царевной-лебедью старинных сказаний. Впечатлительному эстету-визионеру, еще недавнему посетителю ивановской «Башни» и незабываемых «сред»[282], выбиравшему вторую образную версию, тотчас виделись «мечты одной два трепетных крыла» и даже «две руки единого Креста»[283]. Самой Ксении последнее сравнение наверняка показалось бы непозволительно дерзостным: она просто безоглядно следовала некому велению свыше, исповедовалась языком хореографии. Она в то же время как никогда глубоко постигла драматический символизм картины гибнущего совершенного создания неба, сознающего не только свою участь, но и то, что принять ее следует как положено эстетически безупречному творению. Лебединые крылья с последней надеждой взметались ввысь, и даже в том, как они тут же простирались долу, была не жалкая пассивность умирания, а лишь пауза перед очередной попыткой вырваться из вязкого болотного морока земли; по телу до самых кончиков пальцев ног все заметнее пробегала конвульсивная дрожь, ритмически подчеркивая напряжение еще пульсирующей, не сдающейся жизни, доведенное до предела, — это дрожал натянутой струной нерв балетного действа, которое и самый въедливый зоил назвал бы идеальным. Подсознание Ксении вызвало из памяти поразившие ее когда-то строки еще одного гениального француза, поэта[284]. Эта поэтическая пьеса, болезненно утонченная, была неразрывно переплетена с пронзительной музыкальной пьесой:
Бессмертный, девственный властитель красоты.
Ликующим крылом ты разобьешь ли ныне
Былое озеро, где спит, окован в иней.
Полетов ясный лед. не знавших высоты!
О. лебедь прошлых дней, ты помнишь: это ты!
Но тщетно, царственный, ты борешься с пустыней:
Уже блестит зима безжизненных уныний,
А стран, где жить тебе, не создали мечты.
Белеющую смерть твоя колеблет шея.
Пространство властное ты отрицаешь, но
В их ужасы крыло зажато, все слабея…[285]
Силы покидали балерину с каждой секундой — по капле, по крупице утекали неведомо куда. Внезапно мутнеющее уже сознание Ксении озарилось: «Господи, завтра ведь мой День Ангела! И я могла забыть?! Это он сам мне сейчас напомнил, он ведь где-то рядом — как всегда…». Никому не заметная, мгновенная улыбка коснулась губ Ксении. В этот миг она отчетливо увидела со стороны: теперь на сцене священнодействовала уже не балерина Светозарова, а ее светозарный Ангел-Хранитель! Исполнен последний оборот, последний воздушный взмах крыльев, вот крылья-руки сложились за спиной, и наконец сама птица-балерина простерлась на сцене, уронив голову на неподвижные руки, вытянувшиеся перед ней с достоинством и покорностью высшему началу. Затих последний струнный аккорд. Трехминутный номер закончился. Невесомое перышко отделилось от ослепительно белоснежной пачки Ксении и унеслось в воздушном потоке, взметенном опускающимся занавесом. Когда через минуту он снова поднялся, повинуясь несмолкающим овациям публики, Ксения оставалась в той же позе лежать посередине сцены, но теперь все увидели не мертвого лебедя, а застывшее тело молодой женщины! Беспокойный ропот прокатился по залу, потрясенные зрители повскакивали с мест. К недвижимой уже бежал врач и кто-то из «балетных». Не нащупав пульс, врач поднес к губам балерины зеркальце — оно осталось незамутненным. С точки зрения медицины все было совершенно ясно. В огромном пространстве театрального зала воцарилась оглушительная давящая тишина и всеобщее оцепенение. Даже женских всхлипов не было слышно, только по прекрасному уже фарфорово-холодному лицу, точно из открывшейся смертельной раны души, струились горячие слезы искупительной жертвы.
В один из промозглых дней ноября 1916 года часа в два пополудни возле нового участка Смоленского кладбища, что ближе к Гавани, остановилась извозчичья пролетка. Средних лет полковник с уже заметной проседью в усах, задремавший было от размеренной езды, очнулся при стуке копыт четверки лошадей, влачивших посреди неведомой похоронной процессии громоздкий катафалк. Он открыл глаза, провел ладонью по лицу, поглядел по сторонам, пытаясь сориентироваться спросонья, осведомился у сходившего с подножки ординарца:
— Где это мы? Неужели приехали?
— Так точно, ваше высокоблагородие: все по Малому проспекту ехали, как было приказано.
Офицер, расплатившись, отпустил пролетку, продолжая присматриваться к местности:
— Давненько тут не бывал, пожалуй, что лет восемь! Изменилось все порядком — прирастает, братец, скорбная нива.
Подтянутый унтер охотно согласился:
— A-то как же-с! Жизнь жизнью, а смерть — она того, всегда свое возьмет, и не только у нас на позициях. Всякому человеку свой срок определен, все мы в земельку-то ляжем. Я понимаю, это еще счастье, когда так-то вот — по обряду христианскому.
— Правильно понимаешь, Егор, ты, оказывается, философ… Только как там мои орлы в маньчжурском песке лежат — Бог весть! Может, и могил не осталось уже…
Холодный ветер с залива налетал порывами; от этого, наверное, слезились глаза. Полковник поднял воротник походной шинели, поежился:
— Ну пойдем, братец. Далеко он нас все-таки завез. Придется, чувствую, место поискать!
Не доходя до неприметной простой решетки, обозначающей кладбищенскую границу, он вынужден был все же остановиться. На расстоянии от ограды среди чертополоха высился одинокий памятник — мимо такого надгробия трудно было пройти, не задержавшись. Оно точно притягивало своей необычностью любопытного прохожего; можно сказать, это был выдающийся образец ваяния в классическом стиле вековой давности, а то и более раннего времени. На гранитном монолите стояла небольшая бронзовая женская фигура — само воплощение темного, рокового начала в женщине; не библейская Ева, а какая-то апокрифическая, отвергнутая Богом Лилит — с горящим взглядом — матерь демонов (полковник был не просто глубоко, традиционно верующий, но к тому же всесторонне образованный человек и знал многое из того, о чем неискушенный, доверчивый россиянин зачастую даже не догадывается). Красота ее будила откровенно животные чувства, грубые инстинкты — слишком плотская красота, зовущая в некую бездну. Офицер всегда испытывал к подобным существам противоположного пола два чувства: врожденную брезгливость дворянина, воспитанного в становившемся анахронизмом духе целомудренного благородства, и вдобавок сожаление православного русского человека о том, как все же лукавы эстетические каноны. диктуемые необузданной страстью. Даже у Егора вырвалось:
— Ну и баба! Как есть ведьма — такую не то что нагайкой, колом осиновым уму-разуму не выучишь!
Офицер все еще созерцал уникум со скорбной миной, сложив руки на груди. В скульптуре сочеталось множество грозных, хищных черт: устрашающе раскинутые крылья и когтистые лапы, как у степного стервятника, какой-то варварский аркан в руках, да к тому же эта фурия была окружена свитой из свирепых львов и нахохленных сов, готовых вонзить свои крючковатые клювы в любого, на кого укажет им могущественная повелительница. «Вот красота, губящая все живое и чистое на своем пути, уничтожающая стихия, настоящий бич рода человеческого! Ничего себе птичка — просто олицетворенное зло![286] — с ужасом думал полковник. — Кто же это, интересно, „удостоился“ такого надгробного памятника?» Он нагнулся, раздвинул сорную траву, прищурившись, разобрал надпись на камне, но ни фамилия, ни имя не вызвали у него ровно никаких ассоциаций — погребенный ничем известен не был. Внутренне сожалея, что зря потрачено время, полковник устремился прочь от «зачумленного» места, в глубь кладбища. Верный ординарец, поминая «бронзовую бабу» недобрым словом, едва поспевал за «его высокородием».