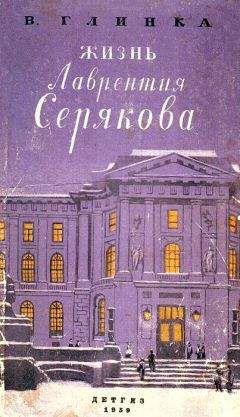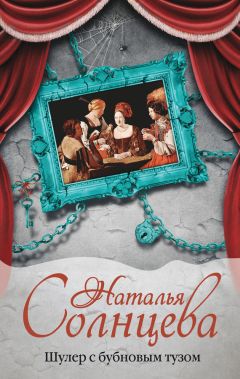— В самом деле? Это может быть очень своеобразно! — обрадовался Одоевский. — А вы делали уже подобные работы?
«Довольно ли, мол, у тебя умения?» — перевел себе этот вопрос Серяков. Но не смутился — картуши в чертежной были хорошей практикой.
— Случалось, — сказал он. — Если вашему сиятельству не понравится, то берусь тотчас перечертить план, разумеется, без всякого дополнительного вознаграждения.
— Ну что вы, зачем же! — чуть сконфуженно улыбнулся Владимир Федорович. — Сделайте, сделайте, пожалуйста, как сказали… Сколько же я вам буду обязан за труды?
Лаврентий назвал цену, что не раз получал за черчение подобных планов, — пятнадцать рублей. Одоевский согласился, и топограф ушел, унося брульон и акварель, оставив свой адрес.
Два, три, четыре вечера сидел он, склонившись над чертежной доской, ярко освещенной двумя дорогими восковыми свечами. За открытыми окнами затихал в белой ночи шум города, матушка спала за занавеской, неторопливо тикали недавно купленные стенные часики с голубым жестяным циферблатом.
Ну, вот план и закончен. В левом верхнем углу — рамка из подцвеченных акварелью по-осеннему желтых и красноватых дубовых и кленовых листьев: таковы главные породы деревьев парка в Дрокове. А в этой рамке белеет дом, от которого сбегают к реке цветники. Рисунок сделан только коричневой тушью — так строже, лучше отделяется от раскрашенного плана.
Одоевский встретил его, как знакомого:
— Пожалуйте сюда, господин Серяков.
Долго рассматривал, улыбался, глядя на изображение дома. Очевидно, был очень доволен работой. Потом, неловко отвернувшись, взял из-под каменного пресса на столе приготовленные деньги, полез за борт сюртука, пошарил в одном кармане жилета, в другом, вытащил десятирублевую ассигнацию, скрутил в комочек с теми, что держал в руке, и, покраснев, стал совать их в руку Серякову.
— Очень, очень хорошо сделано! Так хорошо, что позвольте предложить вам немного более договоренного… Только зачем вы затруднились гравировать вид дома и объяснение знаков?
— Это начерчено пером, — пояснил Серяков.
— Да что вы? А так похоже на гравюру. Из вас, я думаю, вышел бы отличный гравер.
— Я и гравирую на дереве, — краснея больше князя, сказал Лаврентий.
Хотел назвать книгу Студитского, да посовестился. Хотел сказать, что нет заказов, и тоже смолчал.
— Вот как? — Одоевский посмотрел в лицо топографу очень внимательно. (Лаврентия разом ободрил этот взгляд: такая доброта в нем светилась.) — Покажите, пожалуйста. Непременно принесите образцы вашего искусства. Мне их, знаете ли, очень нужно видеть. — Владимир Федорович обернулся к полуотворенной двери, через которую вышел в первый раз к Серякову, и громко спросил: — Княгиня, ты здесь?
Так как никто не ответил, он проворно, но очень мягко взял Лаврентия под локоть и повлек за собой.
За дверью открылась такая же большая вторая комната, тоже с многими книжными шкафами. Но тут стояла более яркая и нарядная мебель, сверкал светло-золотистым боком и приподнятой крышкой большой рояль. А рядом с ним, в кресле, за каким-то рукоделием сидела осанистая пожилая дама. Серяков поклонился.
— Представь себе, Вера Федоровна, — сказал Одоевский, — господин Серяков, который отлично, просто отлично начертил план нашей рязанской деревни и украсил его прелестным видом дома, оказывается, гравирует на дереве! А ведь я заказываю все картинки к «Дедушке Иринею» за границей. Но как они изобразят Россию? — Он повернулся к Лаврентию: — Ведь вы — совершенная находка для нас, русских литераторов. В Петербурге совсем нет профессиональных граверов на дереве, которые могли бы резать для печати. Завтра же принесите ваши работы нам посмотреть.
Княгиня молча улыбнулась, глядя на мужа, но, когда Серяков поклонился и двинулся было к двери, она сказала:
— Так мы ждем вас завтра с вашими гравюрами.
Серяков шел домой в отличном настроении: «Есть же на свете хорошие люди! Заказал бы мне награвировать что-нибудь для своих книг, уж я бы постарался. Да, наверное, так и случится».
На другой день в департаменте Лаврентий поделился своими надеждами с Антоновым.
— Еще б он был худой человек, — сказал тот, — когда я его у Василия Андреича не раз видывал! А брат его с моим Александром Михайловичем заодно на площади был. Это хоть и князь, да не Шаховского или Аракчеева племени.
Когда в третий раз Серяков переступил порог кабинета Одоевского, там рядом с мужем сидела и Вера Федоровна. Лаврентий принес не маленькую книжку Студитского, а отдельные, сделанные в типографии отпечатки — так они выглядели внушительнее. Захватил и свои первые гравюрки.
— Не говорите, не говорите, мы сами будем узнавать! — оживился Владимир Федорович.
И действительно, они сразу называли Неаполь, Женевское озеро, собор в Кордове, Святую Софию. Потом расспросили, где Серяков учился, с кем живет, сколько зарабатывает.
— И не посылай никогда больше за границу, князь, заказывай все молодому человеку, — сказала Одоевская вставая. — Да познакомь его с кем нужно, чтоб скорее дали работу. Рекомендуй Соллогубу, Кукольнику, Сенковскому…
Она вышла. Владимир Федорович предложил Серякову посмотреть увражи с гравюрами, которых оказалась целая полка, а сам, присев к столу, принялся писать письма.
На лестнице Лаврентий прочел стоявшие на конвертах имена и сразу отложил тот, на котором значилось: «Г-ну полковнику барону Константину Карловичу Клодту». «Бог с ним, с бароном и полковником! Поди, и на порог-то не пустит меня, солдата». Прежде других он решил идти к издателю и редактору «Иллюстрации» Нестору Васильевичу Кукольнику.
Глава VII
У Кукольника. «Жаворонок»
Рассеянный Одоевский не обозначил на конвертах ни одного адреса, и в пятом часу следующего дня Серяков отправился по указанному на обложке журнала: «В Гороховой улице, близ Семеновских казарм, в доме Домонтовича». На медной дощечке на втором этаже Серяков прочел выгравированную готическими буквами надпись: «Нестор Васильевич Кукольник», а на другой половинке той же двери была приклеена бумажка с выведенным от руки словом «Иллюстрация».
Пожилой краснолицый лакей, открывший на робкий звонок Лаврентия, сначала дохнул на него винным перегаром, потом осведомился, не из министерства ли он, и наконец сообщил вполголоса, что барин недавно возвратился из должности, спит и будить не велел до шести часов. Набравшись храбрости, Серяков также негромко сказал, что пришел передать письмо от князя Одоевского. Лакей, подав знак не греметь шашкой и шпорами, впустил его в переднюю, указал на стул, а сам прикрыл двери в комнату, откуда доносился густой, истинно барский храп.
Занятый здесь же своим делом — он чистил каким-то порошком объемистые серебряные чарки, — лакей принялся рассказывать, что барин его не только трагедии пишет да журнал издает, но еще состоит при военном министре князе Чернышеве и чин имеет статского советника. Потом рассказал, что самого его зовут Тихоном, что служит у барина десять лет, и не просто лакеем, а камердинером.
— Моя обязанность, — говорил Тихон, — барина одеть, раздеть, побрить, подать помыться, в кабинете убрать, перья вычинить да бумагу чистую на стол подкладывать. Серебро я, братец, чищу оттого, что без работы сидеть не люблю, а так прислуги у нас вполне довольно: держим еще лакея, повара и бабу-судомойку.
Слушая его, Лаврентий позабавился, вспоминая ливрейного лакея Одоевского. До чего же слуги любят выхвалять важность своих господ! Будто и они от этого важнее делаются. Но вслед за тем несколько оробел. Если Кукольник в чинах и на службе при таком важном лице, так захочет ли он и разговаривать-то с ним, с нижним чином? От одного имени всесильного военного министра трепет охватывал в те времена людей и позначительнее унтера-топографа.
За разговором не заметили, как храп за дверями прекратился. Вдруг раздалось зычное откашливание, шлепанье туфель, и вслед за тем зазвучали минорные аккорды на рояле.
— Встал раньше время, — сказал Тихон. — Начал провизировать, сочинять значит. Пойти доложить?
— Да удобно ли сейчас-то? — усомнился Лаврентий.
— А чего ж? Наиграется еще, что ему делать! Тихон растворил двери и вышел в соседнюю комнату.
Серяков приблизился к порогу. Ему открылась зала в пять окон, стулья по стенам, зеркала в простенках. В дальнем углу, за роялем, профилем к нему сидел барин. Даже если б Лаврентий увидел его в другом месте, все равно сразу узнал бы, так он был похож на карикатуру из «Иллюстрации». Круглый табурет у рояля был ему низок, необычайно длинные ноги в клетчатых панталонах образовали острый угол. Верхняя часть корпуса была облачена в домашнюю, донельзя затертую ярко-синюю атласную куртку с оранжевым воротником и обшлагами. Красное, оплывшее лицо было сосредоточенно, и губы, казалось, шептали что-то. Жидкие волосы встали на затылке торчком — должно быть, со сна.