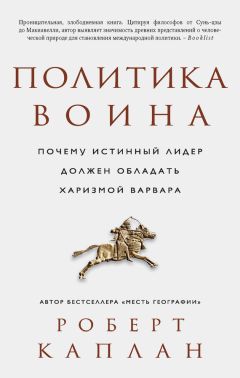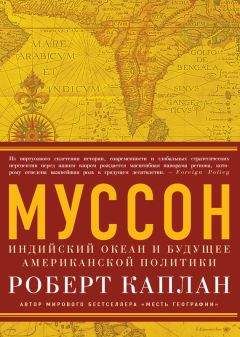Официанты выстраивались в очередь – считали за честь обслужить таких гостей. И даже главный швейцар Метрополя Фролыч, штатный сотрудник МГБ, сквозь пальцы смотрел на пьяные выходки Бориных гостей, и даже не упоминал об этом в своих отчётах, за что был неоднократно «обласкан» щедрым на подношения Борисом Крамером.
Когда Яша Мойсе вошёл в шаляпинский кабинет Метрополя, у него зарябило в глазах от стоящих на столе серебряных приборов, фаянсовых и хрустальных на льду вазочек с чёрной и красной икрой. Были белые грибы, запеченные в сметане с соусом из шампанского, но больше всего Яшу потряс фрукт посередине стола. В этот вечер он узнал, что на свете существуют ананасы.
Одним словом, для друга Боря расстарался, как мог. Вечер был в самом разгаре. Внизу играл оркестр, и сегодня на счастье выдавала какие-то невероятные трели труба самого Эдди Рознера.
Первую выпили за память о родителях. Яшка ел всё подряд, его вдруг обуял дикий голод – за недели ожидания он похудел на десять килограммов. Потом ещё много пили и рассказывали каждый о своей непростой жизни, перебивали друг друга, смеялись, пока Боря не спросил, наконец, о дате отъезда. И, как человек опытный и знающий посоветовал Яше:
– Вас всё равно будут шмонать – серебро, книги, картины, кольца и прочую дорогую дребедень не бери. Трусы, носки и всё, тогда пройдёшь без вопросов.
– А как же быть с нашим «Крысёнышем», – Боря недоумённо уставился на него,
– Ты что имеешь в виду?
– «Моисееву зверюшку», ты разве забыл?
– Ты хочешь сказать, что она жива!!?
– Конечно, думаю, переживёт и нас с тобой.
Боря был потрясён.
– Я ведь всегда думал, что это фокус какой-то твоего деда. Тогда делаем так. Я точно знаю, что при шмоне клетки с канарейками и попугаями оставляют, так что купи клетку и засунь туда шар с «Крысюком», скажешь, дрессированная крыса. Таможенники хоть и не брезгливый народ, но крыс они не любят – это факт. Думаю, проскочишь. Ну, и давай выпьем за нашего Абрашу, царствие ему небесное!
Боря наполнил рюмки. Оркестр внизу играл слишком громко и Яшка наклонился к самому Борину уху:
– У нас один прихожанин из Германии недавно вернулся, долго лечился в госпитале. Так вот, он рассказывал, что рядом с ним лежал какой-то Абрам Лифшиц. Грудь и ноги у него были прострелены, но он выжил и, по описанию, очень похож на нашего Абрашу. Так что, давай за его здоровье. Дай бог, чтобы это было правдой.
Выпили, закусили балычком, икоркой и Боря потребовал горячее.
– Мы должны выполнить одну Абрашину просьбу, – сказал Яша. И рассказал, как лютой зимой сорок первого в синагогу пришла молодая женщина с маленькой девочкой.
– На счастье, Шлифера в синагоге не было в этот вечер. Она отдала мне холщовый мешок, в который был завёрнут Талмуд Вавилонский. Я ещё с детства помню этот Талмуд, ему, наверное, столько же лет, сколько и нашей «Моисеевой зверюшке». Они хранили его под крышей в коровнике много лет – боялись сначала «чёрной сотни», а потом и красных. Там Абраша спрятал что-то очень важное для себя, как сказала эта женщина «Смертельно важное», понимаешь? Видишь, под столом сумка, там и лежит Абрашина посылка, оставляю её тебе. Отдашь человеку, который назовёт Абрашино или моё имя. Спрячь подальше и береги, как зеницу ока, как память о нашем детстве.
Выпили, обнялись.
– Знаешь, Боря, я чувствую, что когда-нибудь Абраша за ней вернётся.
Потом были перепела, и ещё что-то невероятно вкусное, о чём Яшка будет долго вспоминать в фильтрационных лагерях под Веной, да и в Иерусалиме, где он поселится навсегда – первые годы будут голодными. А Боря будет кататься как сыр в масле, до поры до времени, конечно, пока Абрашин Талмуд с плёнкой не сыграет свою роковую роль и в его жизни.
Израиль. Хайфа. Монастырь кармелиток. 1957 год
Пробил колокол на главном Монастыре храма Кармелиток – он каждый раз заставлял Фани вздрагивать и просыпаться. Обрывки из старых, тюремных снов рассеивались, как вязкий и тягучий Нерчинский туман. Да ещё тревожил своими вспышками маяк, что был прямо под ними на склоне горы Кармель. Он вызывал у Фани неясное ощущение тревоги.
Фани пыталась проснуться и понимала, что колокол этот звонит не по ней, там, в Централе, а здесь, на горе Кармель, и отбивает он один час до начала службы в главном храме. Но вставать не хотелось, была зима и даже её отдельный маленький домик, расположенный в самом углу монастырского сада, не отапливался, как, впрочем, и остальные помещения монастыря.
Уже десять лет Фани жила в этой гостеприимной обители под своим настоящим именем – Фейга Ройтблат, (спасибо Семёнову за второй паспорт). Постепенно она вновь сроднилась с этой фамилией, привыкла к ней и даже стала забывать, о том, что когда-то её звали Фани Каплан и Мария Дюпре. Эти имена постепенно стирались из её памяти и лишь изредка, ночными кошмарами, возвращались из прошлого в её нынешнюю жизнь.
Она много читала в эти годы, библиотека здесь была огромной, часто думала о смысле жизни и ещё о том, что имя это – Фейга Ройтблат, как нельзя более подходит к тому состоянию покоя, умиротворения и душевного равновесия, которое она, наконец-то, обрела здесь, на горе Кармель.
Она давно привыкла к жёсткому распорядку и укладу жизни в монастыре, хотя некоторые привилегии, которыми она пользовалась, не совсем нравились сёстрам-монахиням. В последнее время её мучила бессонница, особенно в зимние время года, когда на гору Кармель с моря обрушивались ураганные ветры. По вечерам она зажигала настольную лампу, закутывалась в тёплую шаль и наливала себе бокал терпкого местного ликёра.
Сегодня утреннюю службу проводила мать-настоятельница монастыря Симона. Фейга исправно посещала службы, молилась вместе с сёстрами монахинями. Только молитвы и просьбы к Богородице у неё были свои, тайные, недоступные даже для матушки настоятельницы.
Пора было вставать, а поскольку завтракать перед службой им запрещалось, Фейга решила ещё немного понежиться под пуховым, тёплым одеялом. Она любила эти нечастые службы в главном храме монастыря, где при входе на стене меценатов и благотворителей обители значилась и фамилия её прадеда – Ефима Ройдмана, поставщика двора Его Величества императора Александра Второго.
Фейга жила здесь на особом положении. Ей разрешалось, например, ездить в Хайфу, бродить там по магазинам и лавочкам палестинцев, да и постными днями она себя особенно не мучила.
Уже несколько лет в мае здесь открывалась выставка цветов, которую Фейга особенно любила посещать, потом она заходила в кафе «Пар», где заказывал что-нибудь «вкусненькое». Но тайной её привязанностью был кинотеатр «Ганим», где шли американские фильмы. Она восхищалась Одри Хепберн, была, как девочка влюблена в Грегори Пека, а иногда смотрела и старые, довоенные фильмы с участием Марлен Дитрих.
Из Европы привозили киножурналы и показывали перед фильмами. Города Германии, Англии и Франции очень быстро зализали раны после войны, видно было, что люди, как и до войны, по-прежнему сидят в кафе, ходят на театральные премьеры, воспитывают детей, одним словом, радуются жизни, и только из России сюжетов не было. Сегодня давали довоенный фильм «Голубой ангел» с Марлен Дитрих в главной роли. Фейга купила билет, как всегда, в седьмой ряд на седьмое место – верила, что цифра семь приносит удачу. Из афиши она знала, что фильм этот был снят не в Голливуде, а на знаменитой немецкой студии Бабельсберг.
Погас свет и, как всегда, перед сеансом пошёл киножурнал. Сегодня он был целиком посвящён событиям в Германии. Видно было, что в секторах западных союзников Берлин почти восстановили – открылись новые кинотеатры и магазины. В советском секторе была восстановлена только Дрезденская галерея.
Исполнилось сто лет знаменитой Потсдамской киностудии Бабельсберг, которая четыре года назад была переименована в ДЕФА. Показали старые павильоны, где шли съёмки фильмов про индейцев, гримёрку Марлен Дитрих, с её огромным, из «Голубого ангела», портретом на стене.
Собрание коллектива студии, на котором выступали какие-то люди. Директор представлял ведущих специалистов, актёров и режиссёров…и Фейга увидела его. Абрама Лифшица – главного оператора студии. Это продолжалось всего несколько секунд и, когда начался фильм, и запела Марлен Дитрих, Фейге уже казалось, что она ошиблась и это просто человек, который очень похож на Абрашу.
Фейга вышла из зала и купила билет на следующий сеанс, а потом ещё и на вечерний. Она так ни разу и не досмотрела фильм до конца, зато надевала очки и впивалась в экран, когда начинался киножурнал. Теперь Фейга была уверена точно, что видела на экране Абрашу. Он почти не изменился: «Маленькая собачка до старости щенок», – так когда-то он говорил о себе.
Фейга возвращалась в монастырь и на душе у неё впервые за много лет был праздник. Она даже не заметила, как преодолела тяжёлый подъём к Большому Кармелю. Пробил колокол – вечерняя служба закончилась и сёстры-монахини расходились по своим кельям.