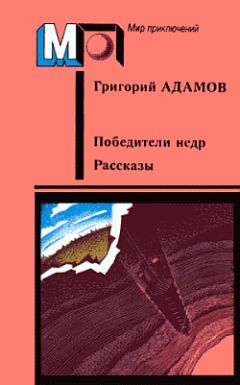— Не поминай лихом. И живи сердцем. Тянись к любви, береги её, Наташка. Прощай.
Елена резко встала, стремительно прошла через пустую горницу, сени, пробежала двором, на улице отвязала от палисадника вожжи, запрыгнула в бричку, наддала Игривке. Молодая лошадь ходко взяла с места, унося наездницу к Московскому тракту. Выбежал из ворот Черемных, бестолково щурился на уносившуюся бричку. Забегая во двор, запнулся о доску, хлёстко упал на лиственничные доски и лихоманкой закричал:
— Увели кобылу! Караул, люди!
Заспанный, всклокоченный Михаил Григорьевич в исподнем выскочил на улицу, глянул на удалявшуюся в вихре пыли бричку. Понял, не понял, что же произошло, но ворвался в комнату Елены. Встряхивал испуганную Наталью, дознаваясь. Матерился, стонал, сжимал серые кулаки. Кое-как оделся, вывел за ворота жеребца с недоуздком, без седла. Охлюпкой, опасно телепаясь на широкой спине коня, поскакал за Еленой.
— Убью, убью, убью!.. — цедил сквозь зубы, прижимая голову к гриве.
— Окаянные дети! — выкрикнул и ударил жеребца ладонью.
25
А на лавочках в тени деревьев буднично судачили пожилые сельчане, нетерпеливо ожидая начала свадьбы с непременными поезжанами, тысяцким, выкупом.
— Вона гляньте-кась, каки расписны кареты подкатили ко двору Михайла Григорича, — сказала старая, полная Лукерья Драничникова.
— Имя чиво, богачам! — высокомерно не взглянул её старик Лука на подкатившие к воротам Охотниковых три экипажа с вензелями, с золотистыми каёмками и с важными кучерами в цилиндрах на высоких козлах. — Только в золочёных каретах и разъезживать. Ваську-то, слыхали, откупили оне у суда. Куды-то сховали парня — ищейками не отыщешь.
— Знамо дело — деньга могёт всё, — отвернулся от экипажей седобородый работник Орловых Свистунов Гаврила по кличке Горбач, потому что когда-то в молодости на золотой Лене носил на себе через тайгу спирт приисковым рабочим, а всех спиртоносов называли Горбачами: издали было похоже, что они с горбом на спине.
По дороге шёл Григорий Соколов с чрезвычайно длинным удилищем на плече — молодой мужик, которого ещё в отрочестве прозвали Лёшей Сумасбродом. Построил Григорий дом — большой, с шестисаженной матицей, высоким крыльцом. И всё хорошо бы, да однажды разукрасил венцы разными колерами, а также нарисовал в изобилии цветков, петушков, букашек, бабочек. Наличники установил резные, ажурные и ставни пёстрые. Дом получился праздничным, как на лубке. Детворе и молодёжи нравилось, взрослым хотя и глянулось, а всё одно посмеивались над жизнерадостным выдумщиком Григорием:
— Олёша Сумасброд, ёра наш, сызнова учудил, — говорили они друг другу с ехидным насмешливым торжеством. — Каку таку потеху в следущий раз выкинет? Глядишь — заплот покрасит, а ить стольки денег надобно на краску угрохать!
И вправду, через лето заплот был покрашен, а точнее — разрисован картинками с лебедями, тремя дородными красавицами в сарафанах и растягивающим тальянку весёлым парнем. Некоторые пожилые люди, проходя мимо этого изысканного, с безвинной картинкой заплота, ругались, отворачивались, а Григорию строго говорили:
— Тьфу на тебя, Олёшка Сумасброд. И нету тебе другого прозвища! Страмными картинками сбивашь с толку молодёжь. Батюшку свово, род свой позоришь.
— Чего же тута, люди добрые, страмного? Красота жизни, так сказать, запечатлённая в красках! Надоело, дедки и баушки, в серости свою жизнь влачить, — отвечал им невозмутимый, улыбчивый Григорий.
Купил Григорий граммофон, и нет чтобы только самому, с семьёй, с женой Марусей слушать музыку — он стал выставлять рупор на улицу, а своего сына подростка Петра просил, чтобы тот сменял пластинки, дежуря в выходные и праздничные дни тёплого времени года у аппарата. И по низовому приангарскому краю Погожего раздавалась разнообразная музыка — пластинок Соколовы имели много. Отец Никон, не на шутку грозился в сторону дома возмутителя спокойствия, размахивая посохом. Заявлял прихожанам:
— Прокляну этого скомороха: ишь, вздумал заглушать священный колокольный звон! А то и посохом отделаю по загривку, ежели где повстречается мне на пути. Так и передайте ему, растлителю душ, революционеру! — отчего-то причислял он Григория к революционерам.
Кто-то запустил в граммофон булыжником, и навсегда замолчал аппарат. Возил его Григорий в город, но починить так и не удалось, и второй купить — лишних денег не водилось.
Словно в утешение, завёл неугомонный Григорий голубей — почтовых, и так ими увлёкся, что однажды вспахал пашню, а посеять пшеницу, говорили, забыл вовремя, со всем селом, как это делывалось обычно в Погожем. Увлекло Григория в голубях то, что они могли доставлять почту на большие расстояния. Он уезжал с голубями-самцами в тайгу или на усольский хутор к товарищу, привязывал к лапке послание — отпускал птицу. Она тем же днём доставляла письмо в Погожее. Сельчане дивились такой необычной способности голубей:
— Мозгов всего ничего — а ишь чиво вытворяют божьи твари! И не заплутают ить: отыщут дом родной и хозяевов.
Радостный Григорий объяснял любознательным односельчанам, которые подозревали его в подвохе и розыгрыше:
— Секрет-то, уважаемые, совсем прост: голубь летит к своей любимой, то есть к супруге — голубке. Тыщи вёрст могёт преодолеть, а всё одно отыщет. Он, знаете, как выбрал себе девку, так они и векуют и воркуют вместе до самой кончины. Весьма верные птицы! Людям есть чему поучиться. Неспроста, видать, они в почёте у святых Апостолов.
— А ну-ка, Лёша, тикай, к придмеру, на Амур — оттедова пусти голубя. Об заклад бьюсь, не сыщет свою голубку. По дороге пристанет к другой! Али в тёплые края махнёт, в Китай да Маньчжурию. И письмо твоё потерят.
— Да дуришь ты нас, Лёша: писульку, чай, оставляшь здесе, а Петька твой опосле втихаря привязыват к голубю, и морочит нам голову. Как же голубь — один, а не в стае! — могёт запомнить дорогу аж с усольских хуторов? До них вёрст семьдесят, ежели не все сто! Ой, врун ты, Лёха! Как нам, людям, середь голубей разобраться, кто с кем любится да милуется?
И загоревшийся, обидевшийся на земляков Григорий действительно чуть было не поехал за Байкал, чтобы пустить оттуда голубей с письмами и доказать маловерам великую преданность друг другу голубиной пары. Жена с трудом удержала Григория — хитростью запёрла его в амбаре и продержала трое суток, пока муж не остыл.
— Эй, Алёша! — окликнул Григория Драничников, беспричинно усмехаясь и заговорщически подмигивая своим собеседникам. — Охотники хотят енерала пригласить на свадьбу: Григорич просил тебя снарядить в город голубей с посланием: без енерала-де не начну торжеств.
— Голубь по любви летит, а не по указке, — серьёзно ответил Григорий, присаживаясь на чурбак возле почерневших и покосившихся ворот Драничниковых.
— Да Лёша самый что ни на есть енерал — Соколов ить! — засмеялась, потряхивая мясистым подбородком, тучная Лукерья. — Его приобуть, приодеть, причесать — так выйдет сам не я!
— Не-е, тётка Лукерья, мне и так ладненько, по-простому.
— Удилище смастерил зна-а-а-тное. Никак дотягивашься до самой серёдки Ангары? — хрипло посмеивался Горбач.
— До самой, не до самой, а далеко забрасываю лесу, — вроде как не замечал Григорий, что над ним глумились.
— Ишь — умелец, анжанер, — поднял указательный палец Лука. — Не на свадебку ли поспешашь, рыбак-анжанер?
— Не приглашённый, а свеженькой рыбки хочу приподнесть Охотниковым. Хорошие люди! — Увидел в небе стайку сизых и белых голубей, которые кружились над домом невесты. — Вон, гляньте: где любовь, тама и голубки.
Лукерья недоверчиво подняла голову к небу, шепнула супругу:
— Дурачок дурачком, а ить всё понимат.
Голуби совершили большой круг над Погожим и Ангарой и запорхнули на конёк дома Охотниковых, стали сверху смотреть на суетившихся во дворе людей, чистя пёрышки, словно тоже хотели присоединиться к свадьбе.
26
Лишь у моста, проброшенного к острову Любви (а от него ходил плашкоут), смог нагнать Михаил Григорьевич дочь. Повезло ему: возник на самом съезде затор из телег, экипажей и авто. Спрыгнул со взмыленного в пахе жеребца, подбежал к бричке, с запряжённой в неё Игривкой, рывком перехватил из рук Елены вожжи. Она чуть было не вывалилась на дорогу, вскрикнула. Отец повернул лошадь к обочине, норовил развернуть бричку, но узко было. Задел оглоблей лошадей, которые были впряжены в крытую телегу. Зашумел народ, матюгами крыл молодой, но корявый хозяин телеги, метались лошадиные морды, копыта били камни.
— Эй, эй, мужик, ты чиво фулиганишь?
— В рыло ему!..
Елена спрыгнула с брички, побежала к мосту, приподняв подол. Михаил Григорьевич, лохматый, страшный, босиком, в длинной рубахе без опояски, вывел лошадь на поляну, отбросил вожжи, выругался, оттолкнул корявого мужика, набросившегося на него с кулаками, побежал за дочерью. Нагнал, ладонью в спину сбил с ног к обочине. Охнув, повалилась Елена в траву. Поползла в кусты боярышника, да отец уже держал за косу, намотав её на кулак.