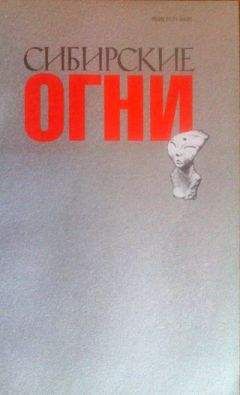Не помня родителя своего, Делия как-то быстро привязалась ко мне. Мы бегали с ней наперегонки по кремнистым дорожкам нашего сада, что на левом берегу Тибра, я устраивал ей забавные представления, изображая то оленя, потерявшего рог, то Сизифа, никак не могущего справиться со своим камнем, то Купидона, крепко подвыпившего с Либером и потому посылающего свои стрелы все мимо да мимо…
А однажды я прочел ей отрывок из своих «Героид», книги, написанной мною еще в молодости, потому и милой мне, но, к удивлению моему, отнюдь не шумно встреченной тогда римлянами. Выбрал письмо Сафо ее юному любовнику Фаону. Затаив дыхание, Делия внимала рыдающим строкам:
Я пишу, а из глаз невольные катятся слезы;
Видишь, как много слов в этих размыто строках.
Пусть ты уехать решил, но ты мог бы смягчить расставанье,
Перед разлукой мне молвивши: «Сафо, прощай!»
Ни поцелуев моих, ни слез не унес ты с собою,
Я без тревоги жила, боли такой не ждала.
Кроме обиды, ты мне ничего не оставил на память,
И у тебя никакой памятки нет от меня.
Я и напутствий тебе не дала, да если дала бы,
То лишь одно: чтобы ты Сафо не смел забывать.
На этом месте я, помнится, остановился, заметив с испугом, как сильно побледнела Делия, как широко распахнулись ее зеленоватые глаза, как судорожно пыталась она сглотнуть подступивший к горлу комок. Мне показалось — вот-вот упадет она без чувств.
— Что с тобой, милая?! — воскликнул я, обнимая ее подрагивающие плечики.
— Это так прекрасно! И так больно, отец… — пролепетала она, едва сдерживая слезы.
Во мне словно яркая звезда вспыхнула: впервые Делия назвала меня отцом! Эта маленькая златовласая красавица, чужая девочка… Моя!..
Слезы стали душить меня, я закрыл лицо руками, сел на камень и услыхал над собой срывающийся голосок Делии:
— Ты плачешь, отец? Тебе плохо, да?..
Далеко за Тибром, всем жнецам в желтых полях, всем богам слышен был мой радостный крик:
— Я счастливейший из смертных! Нет счастливей Овидия!
Лучи счастья и впрямь озарили тогда жизнь мою: все в ней устраивалось наилучшим образом, будто крылатая Фортуна, паря надо мной, опрокинула рог изобилия. Третий брак не только укрепил мое положение в римском обществе, но и очистил от ошметков грязи поэтическую славу мою.
Триумф «Медеи» в театре Марцелла не стал последним: театр Помпея, решив не отставать, поставил мои «Героиды», которые к тому времени почти забылись в Риме. И скоро сотни горожан, оставив перепелиные бои и фишки для игры в «разбойников», толпами валили в театр, где чтец под музыку декламировал мои строки, а мим на котурнах жестами и ритмическими телодвижениями изображал действия, переживания, страсти… Толпы шли в театр, чтобы плакать вместе с Пенелопой, Федрой, Ариадной, Сафо…
При жизни я был включен молвой в число тех немногих поэтов, которых едва ли не обожествляют. Сам великий принцепс не раз выражал мне свою благосклонность, а однажды, перед смотром всаднического сословия на Марсовом поле, Август подарил мне белоснежного скакуна фракийских кровей, о котором так часто вспоминаю, может, излишне даже, но уж столь велики были радость и гордость.
Дошло до того, что у меня появилось немало подражателей. Один из них, малокровный поэт Сабин, написал даже «ответы» мифических героев на послания моих героинь. Ну и хохотали же мы с Коринной и Делией, когда читали присланное нам жалкое, гундосое подражание моим «Героидам»!..
Десятки молодых поэтов Рима мечтали стать моими учениками, но я взял в ученицы одну лишь Периллу, в которой увидел не только достойную преемницу поэтического дара Сафо, но и юную, прекрасную римлянку, равно награжденную как Минервой, так и Венерой.
Ах, Перилла, одна ты знаешь, за что тебя должен благодарить неуемный Назон, но сейчас я, прости, милая, не хочу и не могу вспоминать об этом!..
Слава моя поднялась до таких высот, что можно бы мне тогда и не писать больше ни строки — все равно оставался первым из живущих поэтов. Потому я и разнежился в лучах признания, в теплом течении благополучия, даже на какой-то срок отрешился от стихов.
Это она, моя Коринна, мягко привела меня к мысли, что неразумно и даже грешно надолго оставлять без применения дар, отпущенный мне богами. Вот тогда-то я, переживший столь глубокое превращение натуры своей, стал писать книгу «Метаморфозы». Высокой тенью стоял надо мной старец самосский Пифагор, учивший в древности глубокой о переселении душ, но не будь всех метаморфоз, случившихся со мной с той поры, как познал я любовь, не было бы этой книги…
О чем ты, Назон, опомнись! Этой книги нет уже, не узнали ее римляне и не узнают никогда. Собственноручно бросил ее в огонь. И стоял, обливаясь слезами, как у костра погребального. Нет этой книги!..[2]
Да, я сжег ее той черной ночью, разбившей сердце мое, чтобы она не навлекла еще большей беды на мою семью; но не поднялась рука бросить в огонь другое творение свое — еще не оконченные «Фасты». Календарную поэму эту стал я писать, едва выдав замуж Делию.
Девочка моя светлая! Как быстро пронеслось время, резвей моего фракийского скакуна!.. Я видел, что ты искренне полюбила того, чужого для меня, человека, понимал, что это я, быть может, впервые преподал тебе науку любви чтением своих «Героид», и честно старался не выдавать ревности своей, чтобы не показать, как горько мне отступать в тень, когда к свету твоему выходит этот богатый и именитый павлин Суиллий. Может, он и красив, может, и не глуп, даже добр, возможно, только почему-то кажется мне пройдохой.
Сделай так, Минерва, чтобы я ошибся в оценке зятя своего, чтобы драгоценная моя Делия, лишившись отца — да, отца, смею так называть себя! — не знала беды с богатым и добродетельным мужем!
Да, я был рад и очень горд, что свадебную церемонию моей дочери почтили своим присутствием не только две августейшие Юлии, но и сам принцепс. Однако вовсе не потому стал я писать свои «Фасты», закончить которые собирался прославлением Августа и его благословенной эпохи.
Большим грешником был Назон, но льстецом не был.
Как это — дай, Феб, памяти! — писал я еще в «Науке любви»?
«Пусть другие радуются древности, а я поздравляю себя с тем, что рожден лишь теперь: наше время по душе мне». Кажется, так, а дальше не помню: растрясла беда мою память, как сбивает град маслины с ветвей…
Да и как не любить мне время великого Августа, давшего римлянам после кровопролитных гражданских войн долгожданный мир и благоденствие? Как не любить мне блистательного принцепса, сделавшего Римскую империю самым могущественным государством на земле, позволившему мне жить беззаботно, занимаясь лишь любимым своим делом — сочинением стихов? Как не чтить мне его, богоравного, осенившего августейшим вниманием мою семью, подарившего мне великолепного скакуна? Как не преклоняться мне перед осиянным Августом, сменившим время грубости и дикости на эпоху изящной обходительности и утонченности вкусов?..
Я вовсе не торопился закончить «Фасты», занимаясь тщательной отделкой каждой строки, чтобы любой из стихов соответствовал блистательной и изящной эпохе. Мне казалось, что торопиться некуда — много светлого времени впереди…
Каюсь, не очень-то насторожило меня то, что Август вдруг отправил в ссылку дочь свою — Юлию-старшую, а потом и внучку — Юлию-младшую. Коринна моя плакала, боясь высказать всю тревогу, сосущую ее душу, а я, не видя сгущавшиеся надо мной тучи, твердил, что внезапный гнев принцепса непременно обернется вскоре высочайшей милостью…
Минувшей осенью, когда я беззаботно гостил на острове Эльба у друга — поэта Котты, сына великого оратора Мессалы, прибыл гонец с приказом немедленно мне явиться в Рим, пред светлые очи принцепса.
Недоразумение, подумал я тогда…
Идя в дом Августа, увидав у входа лавр, дерево Аполлона, и двери, украшенные дубовым венком, который дается лишь за спасение граждан, я еще пуще поверил, что ничего плохого со мной здесь не может случиться. Но Август встретил меня гневом. Оказалось, уже готов эдикт, приговаривающий меня к ссылке. И даже крайний срок моей отправки в мрачную Скифию уже определил принцепс — декабрь.
Будто молния Юпитера ударила в меня. Не мог я поверить в крушение всей моей жизни, всех надежд. Знать бы точно вину свою, навлекшую столь ужасный гнев, — было бы легче…
Поэт Назон способствует растлению нравов? Крайне безнравственна его «Наука любви»?.. Так ведь римляне прочли эту книгу еще восемь лет назад!.. Запоздавшее возмездие за стихи?.. Или все-таки наказание мое как-то связано с высылкой августейших Юлий, обвиненных, по слухам, в распутстве?.. Не поспешил своевременно донести?..
Если чудом каким выживу, будет время подумать, в чем вина моя… Август в ярости не позволил мне даже задать вопроса…