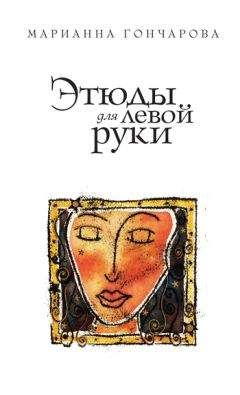Леди Рендо, супруга английского посланника в России, в своих «Письмах» пишет, что Бирон был представителен, но взгляд имел отталкивающий; Бенигна же — «так испорчена оспой, что кажется узорчатой, у нее прекрасный бюст, какого я никогда не видела ни у одной женщины». При дворе Анны Бенигна стала статс-дамой, Бирон оставался до времени всего лишь обер-камергером, но Европа быстро разобралась, что к чему. При своем положении он сможет внушить Анне все, что пожелает. Австрия первой подала всем пример. Желая получить от России корпус в 30 тысяч солдат, она подарила Бирону 200 тысяч талеров и титул графа Германской империи. В Европе заговорили о том, что Бирона легко склонить на свою сторону, были бы деньги.
Обрисуем еще несколькими мазками фигуру фаворита. Вот что пишут о нем современники.
Манштейн в «Записках о России» так говорил о нем:
«Бирон не отличался умом, но не был лишен здравого смысла, хотя многие и отказывали ему в этом. К нему можно по справедливости отнести пословицу, что обстоятельства создают человека: приехав в Россию, он не имел ни малейшего представления о политике, но через несколько лет коротко узнал все, что касалось государства. Он чрезвычайно любил роскошь и великолепие, в особенности лошадей».
Граф Остен был более резок в высказываниях: «Он говорит о лошадях и с лошадьми, как человек, а с людьми, как лошадь».
Леди Рендо писала о Бироне в своих «Письмах»:
«Герцог очень тщеславен и вспыльчив и когда выходит из себя, то выражается запальчиво. Если он расположен к кому-нибудь, то выражает отменную благосклонность и похвалы, но он непостоянен, быстро меняется без всякой причины и часто чувствует к одному и тому же лицу такое же отвращение, какое чувствовал прежде расположение; он не умеет скрывать этого чувства и высказывает его самым оскорбительным образом. Он вообще очень откровенен и не говорит того, чего у него нет на уме, и отвечает напрямик или не отвечает вовсе. Он имеет предубеждение против русских и выражает это перед самыми знатными из них так явно, что когда-нибудь это сделается причиной его гибели».
Под крыло этого человека и направил своим поручительством генерал фон Галлард Родиона Люберова, полагая, что одного имени Бирона будет достаточно для защиты от гнева царицыного любого человека, служащего на предприятии, основанном фаворитом.
Лизонька Сурмилова до болезни была особой веселой, бойкой, избалованной, конечно, невежественной, как и пристало в то время русской барышне. Читать, правда, умела, хоть и не пользовалась никогда этим плодом учености. Болезнь совсем изменила ее натуру. Когда измученный отец спрашивал лекарей, которые в несметном количестве прошли через его дом, что же послужило причиной столь страшной болезни, иные с умным видом выдавали кучу непонятных терминов, а потом, взяв деньги — и весьма немалые, уходили со значительным и обиженным видом, а те, кто подобрее и поумнее, говорили: «Пожар, нервный срыв», после которого ее организм перестал сопротивляться хворобе.
Пожар приключился четыре года назад в Москве в Немецкой слободе. По торговым делам Сурмилов часто сносился с иностранцами, а с семьей француза Журвиля даже дружил. И надо же такому случиться, чтобы Лизонька в тот злополучный вечер осталась в слободе в гостях.
Пожар начался в дальнем квартале, но уже через полчаса пламя бушевало в шести соседних усадьбах. Пожар привычная вещь в Москве, и уж кто-кто, а аккуратные немцы были к нему готовы: и песок, и лопаты, и ведра. Они бы и сами с пожаром справились, но на беду немцам в помощь послали гвардейцев-гренадеров с топорами в руках. И здесь случилось ужасное. Видно, колдовское пламя опалило сердца гренадеров, а юркие саламандры — хозяйки огня — посмутили их разум. Вместо того чтобы тушить пламя, крушить горящие перегородки, гвардейцы, размахивая топорами, принялись грабить погорельцев и их соседей.
И сразу вой поднялся над слободой. Хозяева бросились защищать свое добро. Куда там… Даже офицеры не могли образумить солдат, они словно крепость вражескую брали, засовывая в карманы и за пазуху кошельки, женские украшения, хватали посуду, табакерки, подсвечники, напяливали на себя одежду женскую, мужскую — побогаче и пороскошнее. Людей на пожар сбежалось великое множество, стояли, смотрели, как зачарованные, на пожар и на грабеж. А что их жалеть — немцев? Это сгорит, другое накопят, у них деньги сами к рукам прилипают.
Уже полыхала вся слобода. Увидев далекое зарево, на пожар прискакал сам государь Петр II. Мальчик еще — тринадцать лет, но смел, решителен, бесстрашен. Присутствие царя остановило грабеж, но было уже поздно: на пожарище остались лишь угли, головешки, трупы и запах гари. Всего сгорело 124 дома.
Лизонька пробыла на пожаре час, не более, но когда отец примчался в слободу и отыскал дочь, сидящую на куче узлов вместе с другими детьми, она находилась почти в обморочном состоянии, даже говорить не могла, только стонала. Потом впала в горячку, так и полыхала вся, бедная, сухим жаром. Бред Лизоньки был ужасен — она опять переживала пожар, опять видела оскаленные морды погромщиков и разрубленные трупы.
Спасли девочку, вылечили от горячки, но тут же другая, не менее страшная хворь привязалась — чахотка. Она кашляла, отблеском пожара сиял на ее щеках румянец, батистовые платочки, что прижимала она к губам, окрашивались кровью. Папенька Сурмилов совсем голову потерял.
Карп Ильич Сурмилов уже появлялся на наших страницах, добавим к его портрету несколько слов. Значительный был человек, безжалостный, жесткий, мошенник вселенского масштаба, хотя сам себя он таковым не считал, говорил: я человек дела! Бедный шляхтич из-под Можайска, десятый сын в семье, он вместе с дровяным обозом пришел в Москву в восемнадцать лет и начал службу в Вотчинном приказе писарем. Воевал, как же не воевать, но службу в армии нес в интендантских войсках, а потом сделал головокружительную карьеру и стал одним из богатейших людей в Москве. Сурмилов не терпел и не понимал возражений. А теперь приходилось заискивать перед докторишками, смотреть на них умоляюще, выклянчивая слова надежды. Они советовали отворить кровь, поскольку она испорчена, застоялась, и он покорно смотрел, как делали надрез на синюшной, в гусиной коже руке дочери и сливали кровь в подставленный таз. Надо пить настойки… Он их все перепробовал — одна гадость. Приходили какие-то заплесневелые старухи знахарки, растирали Лизоньке грудь, мазали барсучьим жиром, вешали на шею заговоренные ладанки.
Долго так продолжалось, но болезнь отступила. Кровохарканье прекратилось, однако веселее Лизонька не стала. Худа была, ровно вешалка, румянец во всю щеку, к вечеру жар. Стала она тихой, пугливой, покорной, пристрастилась к чтению, на коленях всегда лежала раскрытая книжка. Карп Ильич теперь сам заезжал на Никольскую в книжные лавки — искал французские романы. Чтобы дочери легче было ориентироваться в книжном царстве, в дом ходила мамзель-француженка и трещала без умолку.
Последний лекарь, немец из цесарского государства, — говорили, что он пользует саму государыню, — выдумал прогулки: каждый день ходить пешком по саду, но можно и в карете ездить по городу, и чтоб не менее часа, понеже воздух в горнице не чистый, полон заразительных частиц, которые способствуют болезни.
Ноги Лизоньку не слушались. Чтоб не гневить отца, она покорно брела по аллейкам в сопровождении верной своей «дуэньи» Павлы, сорокалетней старой девы.
— Вот ужо до беседки дойдем, а там и сядем, — шептала Павла. — Нам бы только до той липки добраться, а там и отдохнем…
Потом немец сказал: ваша дочь выздоровеет только тогда, когда сама того пожелает, Надо сделать так, чтобы ей хотелось жить.
— Это как же так? — не понял Карп Ильич. — Всяк человек хочет жить, он так Богом замыслен.
— А Елизавета Карповна не желает. У нее сил нет, и она не хочет себя превозмочь.
— Что же делать?
— Может, замуж выдать?
— Такая она никому, кроме отца, не нужна, а мерзавцам, которые на деньги мои польстятся, я отдавать ее не намерен.
— Вам виднее, а все же как-то надобно Елизавету Карповну развлечь. А то и вовсе угаснет.
Лизонька была поздним ребенком, и Карп Ильич любил ее без памяти. Где можно развлечь любимое чадо? Конечно, в Санкт-Петербурге, куда двинулся двор. В новую столицу поехали поздней весной, когда дороги обсохли. Сурмилов привез дочь в усадьбу на Фонтанке в гулкий, плохо протопленный, необжитый дом. Что ни день, то бал или машкерад какой. Карп Ильич показывал дочери дворцы, дивный Петергоф с особняками его, Монплезиром и Марли… Смотри, дочь, хочешь, такой построю? Были в опере, итальянский кастрат пел так сладко, что Лизонька прослезилась. И все бы хорошо, если б от болотного петербургского климата не возвернулся к Лизоньке кашель.