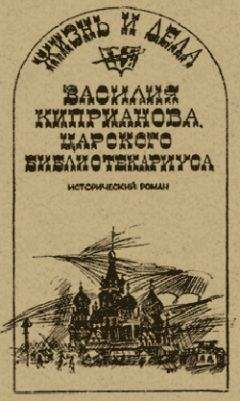— Ну, ты, Мазепа! — сказал Поликарпов своему помощнику, который держал наготове бумаги для доклада. — Плохо, видать, ты с утра читал акафист[142]. Попали мы не в добрый час.
Действительно, за высокой палисандровой[143] дверью губернаторских покоев слышался сердитый голос хозяина. Туда пробежал при шпаге дежурный офицер — артиллерии констапель Щенятьев, бросив на ходу Поликарпову:
— Изволят бриться.
За Щенятьевым поспешал цирюльник в белом подстихаре[144], за ним лакеи несли медный таз, кувшин, полотенце, скрытно с бритвенными принадлежностями.
— Так сказывай, Мазепа, — толкнул помощника Поликарпов, — что ты накопал там про еретика Киприанова?
Помощник, по прозвищу Мазепа, щупленький и тоже бритый, со странной дьячковской косицей, хотя никакого отношения к духовному сословию не имел. Просто окончил он в свое время Киевскую духовную академию и носил подрясник как закоренелый бурсак. Кем теперь ему не приходилось прикидываться! В свое время с большими родственными связями ему удалось устроиться писарем Нежинского полка. Думал, карьера теперь обеспечена. Ан нет! Сделал ставку на гетмана Мазепу, тот к свейскому королю переметнулся, а тут Полтава, а тут русский царь — победитель! И теперь бедный Иоанн Мануйлович, как любит он себя называть, на Московском печатном дворе из милости при кухне и лебезит перед каждым повытчиком[145] и терпит прозвище «Мазепа». А ведь вирши может складывать даже и на латынском языке!
— Не нашел пока ничего, ваша милость… — ответил он, и голос у него был как у поповича — певучий тенорок. — Трудявайся многажды, скудно же восхитих. Еретического, лютерского[146] в его, зловредного сего Киприашки, смотренных мною таблицах и картах ничего нету.
— Хохлацкая ты рожа! — закипел Поликарпов. — Мало что ничего нет! Надо сделать так, чтоб все было…
В этот момент палисандровые створки распахнулись, из двери послышалась громкая русская брань и вылетел медный таз, выплескивая мыльную воду. Затем выскочил и цирюльник, бежал задом, кланяясь в сторону палисандровых дверей и оправдываясь:
— Охти, ваше превосходительство, я лишь слегка подбрил вам височки, так же, по самым достоверным сведениям, изволит подбриваться и его царское величество Петр Алексеевич…
Под глазом у цирюльника зрела свежая дуля. Вновь пронесся озабоченный артиллерии констапель Щенятьев, придерживая шпагу и ведя за собой повара, буфетчика и целую толпу лакеев с блюдами и подносами.
— Изволят завтракать.
Затем в губернаторские покои преображенцы проволокли какого-то бедолагу, закованного в цепь.
— Гляди, Мазепа! — усмехнулся Поликарпов, растирая ладонями свое обрюзгшее лицо. — Ходить тебе тоже в мелкозвонах.
— Не извольте беспокоиться, ваша милость, — лебезил помощник. — Я намедни говорил с его благородием Щенятьевым, коий ныне при дежурстве. Господин Щенятьев также заинтересован в турбации[147] на Киприашку, они ему какую-то чинят в брачных его намерениях противность. Его благородие господин Щенятьев изволили заверить, что их превосходительство губернатор прищелкнут богопротивного Киприашку, яко гнуснейшую вшу.
— Сам ты вша! — резюмировал Поликарпов и принялся разглядывать развешанные по стенам киприановские маппы[148]. (Тьфу! Куда глаз ни кинь — везде оный Киприанов!) На карте Европы у него совершенно голую нимфу еще менее пристойный бык похищает. На карте Африки львы более похожи на деревенских полканов, а орлы — на ощипанных ворон. И это царственные, геральдические звери! Но сие — увы! — к обвинению не пришьешь.
А вот киприановская карта под названием «Америка именование имать от Америка Веспуция Флорентина, иже Емануила, Португалии царя помощию от Гадов в лето 1497 отшеды, первый из европейских, поелику надлежаще, но оную вниде…» Фу! Ну и язык! Таких, с позволения сказать, лексикографов надо при жизни заставлять адские сковородки лизать. Но тут тоже нет ничего для обвинения. Разве что в титуле царском внизу маппы есть оплошность — государь наименован «всепресветлейшим», а сие именование пристойно лишь для герцогов и великих князей. Не забыть упомянуть губернатору Салтыкову и об этом.
В это время палисандровая дверь сама приоткрылась, и стало слышно, как охает и молит о пощаде человек, вероятно, тот, которого провели на цепи. «Ваше превосходительство, ваше превосходительство, — задыхался он. — Христом богом заклинаю, помилуйте… Не видал я той гончей вашей, как ей лапку отдавило!»
Слуги гремели судками, а губернатор командовал:
— Подлей-ка мне соусу!
Послышалось, как он разламывает и вкусно разгрызает птичью ногу. Прожевав, Салтыков закричал исступленно:
— Эй, палач, ты что ленишься, сам в кнуты захотел? Поддай еще этому нахалу, чтоб ему впредь неповадно было господских собак портить!
Как раз в этот момент в приемную и вошел Киприанов, одетый в свой выходной кафтан с искрой, доставшийся ему от немца-певчего. Со страхом прислушиваясь к вою и всхлипываниям, доносившимся из-за приоткрытой губернаторской двери, он сел напротив Поликарпова и никак не мог унять трясущееся колено. Поликарпов же явно ухмылялся.
Когда окончилась наконец трапеза с расправой, Щенятьев на цыпочках провел в губернаторские покои всех — и Киприанова и Поликарпова с его Мазепой. В дверях они церемонно уступали друг другу право войти первым, пока Поликарпов не пошел-таки вперед, преисполненный достоинства.
Салтыков стоял перед овальным зеркалом, облаченный в утренний кафтан палевого цвета. Всматриваясь в свое отражение, он зверски выпучил глаза и раздул ноздри, добиваясь полного сходства с его царским величеством. Затем резко повернулся к замершим в полупоклоне посетителям:
— Ну, который из вас Киприанов? Ты? Так вот что: завтра же чтоб все свои штанбы перевез в Печатный двор. Впредь всякое тиснение производить лишь по указанию директора господина Поликарпова. Слышал? Кругом марш!
— Ваше благородие, — сказал Киприанов, — у меня нет штанбов.
— Как? — изумился губернатор.
— Осмелюсь доложить… — высунулся Иоанн Мануйлович.
Но стоявший позади Щенятьев дернул его за полу подрясника, и тот вовремя остановился, потому что Салтыков на глазах багровел, наливаясь гневом.
— Как нету штанбов? — закричал он так, что зазвенели стеклянные подвески в богемской[149] люстре. — Чем же ты занимаешься в своей… как это… как это…
— Гражданской типографии, ваша милость, — подсказал Поликарпов, склоняясь долу.
И тут странное спокойствие охватило Киприанова. Исчез тик на шее и дрожание в колене. Он стал неторопливо развязывать шнурки на своей папке, а губернатор молчал, недоуменно на него глядя.
— В гражданской типографии только готовятся доски и наборы, иначе — печатные формы, — спокойно сказал Киприанов. — Тиснение же производим на штанбах Печатного двора, под милостивым наблюдением господина Поликарпова.
— Сие действительно так? — недоуменно обратился губернатор к Поликарпову.
Тот еще раз поклонился, а Иоанн Мануйлович вновь хотел что-то вставить, и опять Щенятьев сзади дернул его за подол.
— Позвольте мне присесть, ваша милость, — сказал Киприанов, — дабы сподручнее отыскать в моей папке сказки и письма, работу гражданской типографии регламентирующие…
— Да, да, садитесь… Все садитесь! — позволил губернатор, сел сам, сделал в воздухе жест, и чуткий Щенятьев подал ему табакерку.
Салтыков крякнул, насыпал табачку на седлышко между большим и указательным пальцем и со вкусом вынюхал. Киприанов листал принесенные документы, а Поликарпов со своим Мазепой угрюмо молчали.
В это время кто-то из-за двери спешно подозвал Щенятьева, тот кинулся туда, тут же вернулся — и к губернатору, зашептал ему что-то. Салтыков вскочил, выпучив глаза уже не понарошку. Табакерку сунул под зеркало, одернул палевый кафтан, стал приглаживать парик, а на посетителей рявкнул:
— Уходите, не до вас!
Но в кабинет уже входил, благоприятный и сияющий, раскланиваясь со всеми, господин обер-фискал, гвардии майор Андрей Иванович Ушаков. Поднял ладони, как бы желая всех задержать:
— Нет, зачем же, зачем же уходить… Ваше превосходительство, друг мой, пусть они останутся. Уважаемый директор Поликарпов, уважаемый библиотекарь Киприанов, у меня дело как раз по вашей части.
После обмена приветствиями все сели. «Что еще за напасть?» — думал Киприанов, боясь взглянуть на всесильного обер-фискала.
Сперва Ушаков спросил директора Поликарпова:
— Сколько книжных лавок в ведении Печатного двора?
— Две, ваше превосходительство, — ответил тот, вставая, и Ушаков снова любезным жестом пригласил его сидеть.