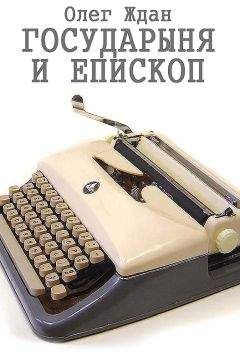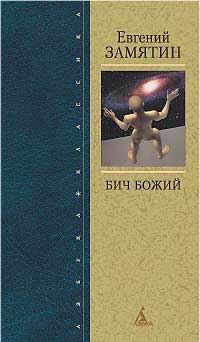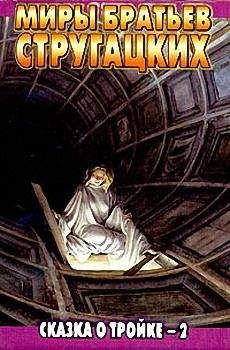Чуть ли не за неделю до приезда императрицы потянулась в Мстиславль окрестная шляхта, желавшая повидать ее. Гостиные номера и комнаты пристройки были давно заполнены и переполнены, корчма Семена Баруха не справлялась кормить гостей, и все обделенные удачей шли к нему, обер-коменданту, с претензией: как так? Почему не предусмотрели хоть каких-то удобств для гостей? Вы что, не понимали, что вся шляхта губернии приедет к вам?
Знали, опасались этого, но за какие деньги построить еще один гостиный двор? Лошадей ваших тоже мы должны кормить? Конечно, а как же? Не голодать же им!.. Слава Богу, капитан-исправник Волк-Леванович заранее составил списки мещан, согласных взять на постой гостей. Потому и билось в голове: скорей бы, скорей!
И еще одно письмо получил Родионов от Николая Богдановича Энгельгарда.
«Милостивый государь Андрей Егорович!
Я нисколько не сомневаюсь, что подготовка к встрече Екатерины Алексеевны проведена успешно и наказы Правительствующего Сената выполнены. А причина моего письма в том, что какая-нибудь мелочь, на которую в обыденности мы не обратим внимания, может произвести неблагоприятное впечатление. К примеру, всяческие инвалиды, древние старики и увечные. Публика эта, как известно, чрезмерно любопытна и стремится появиться там, где ей быть не следует. Посему избы, в которых оне проживают, следует взять под особливое наблюдение. И напротив, хотя в ордере Сената сказано, что костры следует зажигать через каждые тридцать шагов, не следует запрещать мещанам ставить плошки перед своими домами, ежели оне того пожелают.
Опять же, нет в ордере Сената указания, что следует иметь алое сукно в достаточном количестве, дабы наслать от двери кареты императрицы до двери почивального дворца. Надеюсь, Вы эту необходимость понимаете.
Вряд ли Екатерина Алексеевна задержится в Мстиславле дольше одной ночи, скорее всего, обеспечить следует лишь только ужин и завтрак, но тут надо иметь в виду, что столовое белье всякий раз должно быть новым. О публике встречающей мы уже писали. Однако слишком большой толпы тоже не надобно. «И медведя смотреть кучами собираются», — произнесла однажды Екатерина Алексеевна.
Желаю Вам успеха в ежедневных трудах Ваших.
Надеюсь, Вы не забыли, о чем я писал Вам прошлый раз.
С совершенным почтением имею честь быть.»
Андрей Егорович улыбнулся: в Мстиславле императрица будет в полной безопасности. Все сколько-нибудь подозрительные лица накануне ее приезда окажутся в холоднице.
Вдруг Конисский решил ехать отдельно от Богуша-Сестренцевича и, значит, Энгельгарда. Причина была проста: ему сообщили, что некий могилевский мещанин перешел из православия в католичество, — случай в теперешние времена редкий, и причастен к этому архиепископ. Конечно, склонял мещанина к вероломству не Богуш-Сестренцевич, а некий рядовой ксендз, но с его ведома и согласия! Один верующий — не велика потеря, но хотя бы сказал ему, Конисскому, что есть, есть козлище среди его овец! Так много потрачено сил на восстановление православия в епархии, что даже единичная потеря казалась обидной.
Он сам рукоположил во священство на униатские церкви двух православных дьяконов, поскольку села оказались униатскими и не готовы были возвратиться к православию. Не поспеши он с рукоположением, тотчас в этих селах появятся иезуиты. А в это же примерно время бывшего униатского священника Григория Сулковского на Пинщине, перешедшего в православие, судили консисторским судом как вероотступника, приговорили к наказанию ста ударами розог, а на прощание еще и побрили по униатской традиции.
За день до отъезда произошло неожиданное: ночью загорелся дом на Мышаковке, около кладбища. Начался он с хаты коновала, известного пьяницы Савки Кумара, но дул ветер, и огонь скоро разнесло по улице. К утру Мышаковки почти уже не было. Летние пожары от грозы гасят квасом, молоком, куриными яйцами, зимой бросают в огонь белых голубей, ходят с иконами вокруг огня — пустое, пожар разгорался все сильнее, и пламя было таким яростным, что горели даже деревья вдоль улицы.
Мышаковка была православным приходом, поездка в Мстиславль опять оказалась под вопросом.
Утром Конисский и Энгельгард встретились у огромного едко дымящегося пепелища. Погорельцы, черные от сажи, закутанные кто во что, ходили вокруг пожарищ.
В тот же день и преосвященный, и Богуш-Сестренцевич, и униат Ираклий Лисовский провели в своих храмах службы, обратились к пастве с призывом о помощи. Немалое участие принял во всем этом и генеральный викарий ордена иезуитов Ленкевич. Главным было разместить погорельцев по людям. Однако времени не оставалось, и Энгельгард предложил, оставив хлопоты на старост, городовых и квартальных, ехать. Добрых чувств к униату Лисовскому, как и к иезуиту Ленкевичу Георгий Конисский не питал, но делать нечего, надо ехать вместе хотя бы экономии ради. Тем более что они призвали свою паству помочь его погорельцам.
Встретились у дома губернатора, а когда подлетела карета с молодым возничим и можно было садиться, какой-то мужичок-с-ноготок, вдруг кинулся к ним и рухнул под ноги Георгию Конисскому, так что губернатор отпрыгнул в сторону, а Богуш-Сестренцевич, словно защищаясь, вытянул перед собой руки.
— Прости, батюшка!.. — возопил мужичок, валяясь в ногах у Конисского, обнимая и целуя его валенки. Возможно, хотел стать на колени, но свалился на бок и теперь цеплялся за его полушубок, пытаясь подняться. — Прости и помилуй!.. Бесы меня попутали! Вон они, вон, стоят, ждут! Много их, толпа целая!.. Это они хату мою подожгли, они огонь разнесли по улице!
— Кто ты? Что тебе надо?
— Савка я, Кумар! Коновал с Мышаковки! Я это, я!..
— Что ты? — начал сердиться архиепископ.
— Я тогда налетел на тебя, шапку твою сорвал! Не узнал тебя впотьмах, шубу твою забрать хотел!.. Наказал меня Господь огнем, пожаром! Шапка твоя тоже сгорела…
— Какого прихода? — спросил Георгий.
— Марии Магдалены, батюшка! Наказал меня Господь, наказал!
— Пойди сегодня к отцу Иоанну, исповедуйся во грехах.
— Ходил уже, батюшка! До храма дойду, а в храм — не могу, бесы дорогу занимают, не пускают. Надо, чтобы ты, батюшка, простил!
— Прочь с дороги! — сказал Георгий, поняв, что Савка и есть виновник городского пожара.
Он шагнул к карете, следом направились и Энгельгард с Сестренцевичем, Лисовский и Ленкевич. Карета тронулась, но еще долго сзади слышали они безумный вой.
Ехали молча. У всех не шел из головы мужичок-с-ноготок. Однако чувствовал себя виноватым, ниже других клонил голову Георгий Конисский: отказал в прощении человеку. Но разве безгрешен сам? Разве прощение не один из главных камней христианства? Ужаснуться, впасть в отчаяние можно, вспомнив свои малые и большие прегрешения. Но ему-то всякий раз отпускает грехи духовник, старый священник Иоанн! Что ж он отказал в добром слове этому несчастному Кумару? Вот едет он в удобной карете в город Мстиславль встречать императрицу, то есть спешит за радостью, за удовольствием, позабыв все иные хлопоты, всю свою православную паству, не говоря уже о погорельцах, мыкающихся сейчас по чужим домам, — разве это уже не есть грех?
Будь один в карете, повернул бы обратно.
И только к полудню ему стало легче. Принял решение: вернется — отыщет Савку Кумара, позовет на исповедь, а также исповедуется сам священнику Иоанну.
Поначалу Ждан-Пушкин испытывал огромное воодушевление. Увидеть императрицу, а может, и сказать ей несколько слов — разве не счастье? Но вдруг начало нарастать беспокойство. Во-первых, будет много именитых гостей и ему не дадут возможности назваться и представиться. Во-вторых, он может просто не понравиться ей. Женщина своенравная, одно слово — императрица, и по слухам, даже тех, кто был мил вчера, может отправить из Петербурга, как поступила с генерал-майором Зоричем. Еще опасность исходила от своей же шляхты. Ей явно был не по душе последний сбор на строительство, и если пожалуются на предводителя государыне… Как знать, что она ответит и скажет.
И конечно, очень жаль, что государыня решила ехать зимой. Почему-то думалось, что это случится в пору цветения липы, мечталось, что она пожелает посмотреть какое-либо мстиславское поместье, и тогда он провезет ее к своему дворцу в Лютненском черемуховом лесу по липовой аллее, которую насадил, как только вступил в наследство.
Императрица приближалась. Приближение ее Ждан-Пушкин чувствовал и сердцем, и просто кожей: вдруг беспричинно стала чесаться спина. И долго терпеть это было невозможно. Он бросался в первое попавшееся укромное место и со стоном отчаяния и наслаждения начинал зверски чесаться о стену, дерево, дверь. А если такое случится перед императрицей?.. Позор, позор! В последние дни он даже перестал играть на скрипочке и сердился, если супруга садилась к клавесину. Какая еще музыка? При чем тут Глюк или какой-то Моцарт, если на карте судьба?