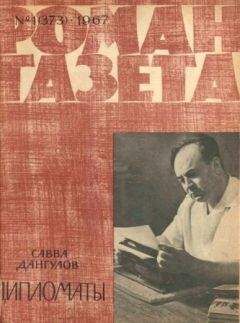— Возможно.
Кокорев не видел лица Репнина, но по тому, как было произнесено это единственное слово, он понял: незачем было рассказывать эту историю Репнину.
— Кстати, завтра у Ленина будет весь дипломатический корпус, представленный в Петрограде, единственный в своем роде случай; все двадцать послов и посланников — у Ленина, двадцать!
Репнин не мог не улыбнуться — это действительно было необычно.
— В своем роде запоздалое вручение верительных грамот? — улыбнулся Репнин.
— Да, конечно, — охотно подхватил Кокорев. — Хотя истинных послов не будет…
— Каких? — встрепенулся Репнин — реплика Кокорева была неожиданна.
— Истинных, — подтвердил Кокорев. — Робинса и этого… Локкарта, который ожидается на днях.
Однако этот Кокорев из молодых, да ранний.
Они поднялись на третий этаж и широким смольнинским коридором пошли к кабинету Ленина. Далеко впереди из раскрытой двери плеснулась на паркет пригоршня света, и они увидели Владимира Ильича. Он шел быстро, одна рука у него была согнута в локте — очевидно, нес книги, держа стопку у самой груди. То ли услышал шаги идущих сзади, то ли почудились голоса, он обернулся.
— А я иду сейчас и думаю: наверно, уже пришел. Дипломатия предполагает точность. Так? — Он отвел голову, желая получше рассмотреть, как принял эти слова Репнин. — И еще думал, предложу сейчас Репнину, нет ли у него желания пойти со мной побродить — на воздух, на ветер, к реке, под открытое небо… Скажу по секрету, в Смольном мало кто знает, что рядом река необыкновенная. Что может быть лучше большой реки! Так пойдем? Или, может быть, здесь посидим? Или все-таки пойдем, решимся? Вот сейчас оставлю книги, и пойдем.
Было безветренно и даже солнечно, но свет не по-декабрьски резок, а тени густые — справа шла туча, сине-багровая, медленно растущая.
— Где-то здесь на берегу у Петра были смоляные склады. — Ленин посмотрел вдоль реки, мягко сощурился. — Да, именно к этим берегам со всей России везли смолу. Помните, в народе говорят: «На воде да на смоле флот Петров стоит…» Был у него и ум, и характер, и замах, но трудового человека не жалел. Одно слово — царь.
Репнин побледнел, стал похож на тучу, что шла сейчас с востока. Петр был одним из немногих, на кого хотел походить Репнин. Когда-то в молодости он даже подражал Петру: грубоватой статью фигуры, резкостью суждений, нарочитой неловкостью говора, норовом.
— Но Петр продвинул Россию на столетие. — Репнин смотрел на восток, откуда шла туча, и, казалось, лицо его восприняло ее цвет и тревожное мерцание. — Кем была Россия до Петра, кем стала при нем?
— Верно, он был и характером крепок, и делом упрям. — Ленин смотрел вдаль, точно сама история выстлалась перед ним, такая же широкая и неоглядная, как эта река. — Но царевой крепостью и упрямством.
— Иногда полезно пойти народу наперекор, — произнес Репнин убежденно.
— Наперекор? — переспросил Ленин. — Чтобы защитить интересы народа, действовать наперекор ему не надо. По этой самой причине сгорел Февраль и возобладал Октябрь. Народ требовал мира и земли. Февраль ушел от ответа. Октябрь ответил. Все очень просто.
Они смотрели туда, откуда шла туча. Она шла медленно, но неотвратимо. Здесь свет все еще был прозрачным и резким, а там, откуда она пришла, он стал лилово-мглистым, неживым. И все, что лежало в том краю, крыши и окна домов, купола храмов, наконец, поворот реки, лишилось крови и потускнело.
Ленин произнес «сгорел» и «возобладал» так убежденно, так откровенно торжествующе, что возражать было бессмысленно — он стоял на этом не словом, жизнью.
— По-моему, в тот раз мы не договорили, — произнес Ленин, глядя в глаза Репнина, — он почувствовал затруднение собеседника и как бы подал руку. — Кстати, чтобы не забыть: мы получили телеграмму из Лондона, Чичерин будет в Питере в январе. — Он произнес это скороговоркой, точно хотел дать понять: все это действительно сказано им, «чтобы не забыть», и, в сущности, к деду не относится. — Итак, жду от вас ответа. От себя могу сказать — мы бы хотели, чтобы вы сказали «да».
— Я скажу «нет».
— Простите, почему?
— Вряд ли случайно, что никто или почти никто из дипломатов не откликнулся на этот призыв о сотрудничестве, — заговорил Репнин. — Полагаю, что и я не должен этого делать. Посудите сами, почти семнадцать дет я отдал дипломатии. Я пошел туда по призванию… Кстати, дипломат и карьера не всегда синонимы. Все, что я совершал, совершал с открытыми глазами и считал справедливым. Встреча с отцом мне не угрожает, его уже нет в живых. Хотя будь он жив, анафемы мне не миновать… Но брат, мой брат, который отдал дипломатии двадцать дет и был моим наставником и, если хотите, другом… Что он скажет?
— Скажет или… сказал?
Репнин взглянул на небо. Туча уже встала над головой.
— Я хочу быть откровенным: сказал. Вы поймите, что для меня Питер не безбрежное море. В этом городе у меня есть свой город, где я знаю каждую улицу, каждый дом, а в нем каждого человека. Это город со своим уставом и нравами, попирать которые не позволено, город моих близких, всех тех. кто составлял гвардию моих дедов, живых и мертвых дедов и дядей. Легче расторгнуть брак, уйти из семьи, порвать с отцом или даже с матерью, чем вырваться из пределов этого города.
Ленин взглянул на Репнина.
— Нет, я должен все понять. Что вас держит — боязнь молвы? Чего же здесь опасаться, здесь радоваться надо! Пусть вас проклянут ваши недруги и предадут анафеме! Но вы живы, полны сил и решимости служить благородному делу. Да поймите вы, бедный человек, именно это и есть мужество, а значит, и радость и удовлетворение.
— Я хочу служить России, Владимир Ильич.
— Вы будете ей служить так, как никогда не служили…
Ленин посмотрел на Репнина, будто тот возник перед ним впервые. Что говорило сейчас Ленину лицо Репнина? Наверно, честный, бескомпромиссный человек. Честный по складу всей своей натуры, по складу, быть может, представлений о жизни, для которого высшим благом были добрые начала человека, неспособность к подлости прежде всего. Но в плену ложных истин, более того, истин лживых.
— Россия? Она без конца и края, как горе, которое поселилось в ней. — Ленин обратил лицо к ветру, точно хотел, чтобы ветер, который дул все сильнее, коснулся его. — Вот если бы прокляла та Россия, не было бы проклятия сильнее. Бойтесь этого проклятия — остальное не страшно. — Однако я пригласил вас с иной целью, — произнес Ленин и разом отмел все слова, не имеющие отношения к тому, что намеревался сейчас сказать. — Мне необходим ваш совет, — продолжал он и посмотрел на Репнина.
Прямота, с которой был поставлен вопрос, казалось, импонировала Репнину.
— Вы знаете, что революционное правительство России приказало русским войскам, находящимся за рубежом, вернуться на родину.
— Да, мне известен этот приказ, — ответил Репнин и взглянул на снеговую тучу, она застлала последний кусочек сини и разом изменила цвет земли и неба, цвет и свет.
— На приказ откликнулись наши армии, в частности те, что были на Балканах, откликнулись и двинулись на родину, от Дуная к Днестру и Бугу. — Ленин посмотрел на Репнина и сдвинул брови — казалось, неживой свет, который пролила на землю туча, проник в самые поры лица Репнина. — Войска возвращались на родину в полном порядке, хлеба в фуража у них в обрез. И вот новость: приказом маршала Авереску войска окружены и остановлены. Авереску подтянул к ним артиллерию, а вызнаете, что у него на этот счет опыт есть. Помните девятьсот седьмой год, пылающие румынские села в Приднестровье?.. Оказывается, у революции был свой маршрут и свои календарные сроки — ей потребовалось два года, чтобы дойти от московской Пресни до румынских степей, — всего два года, а?
Репнин ничего не ответил, только ссутулил плечи.
— В общем, положение трагическое: посреди снежной степи, без хлеба и крова над головой тысячи русских людей. Не скрою, я хотел бы знать ваше мнение… что делать?
— Очевидно, обратиться к русскому посланнику в Бухаресте, — сказал Репнин.
— Это к кому же… Поклевскому? — спросил Ленин, не останавливаясь.
— Да, к Поклевскому-Козелл, — произнес Репнин.
Ленин продолжал идти.
— К человеку, который в доказательство преданности России призвал сэра Эдуарда Грея?
Репнин ничего не ответил, лишь прибавил шагу: господи, вот они, времена! Нет, решительно нельзя было себе представить, что эта история известна Ленину. Надо было отвечать Ленину, но как? Сколько помнит Репнин Поклевского, тот вел долгую тяжбу с русским военным агентом в Бухаресте адмиралом Веселкиным. Адмирал, опираясь на связи при дворе (по слухам, он был внебрачным сыном Александра Третьего), пытался сокрушить Поклевского, используя грубые средства. Но посланник не обнаружил ни сомнения, ни страха. Многомудрый и ловкий политик, он просто регистрировал каждый шаг адмирала и в бесстрастных, но точных донесениях в Питер методически компрометировал его. Это единоборство продолжалось годы. В него втянулось даже румынское правительство, которое раскололось на тех. кто благоволил к посланнику, и на тех. кто симпатизировал адмиралу. В решительный момент Веселкин пустил все козыри, в дело был вовлечен сильнейший из покровителей — царь потребовал отзыва посланника. Однако в этот удар оказался для Поклевского не смертельным. Он знал: есть обстоятельства, когда можно обойти даже царскую депешу. Он апеллировал через английского коллегу в Бухаресте к сэру Эдуарду Грею. Адмирал был посрамлен, а вместе с ним и высокий заступник. Что же касается Поклевского. то он обнаружил истину, которая больше всех поражений на фронтах свидетельствовала о позоре николаевской России: очевидно, русский посланник представлял в Бухаресте не только русские интересы.