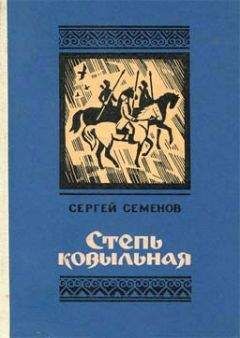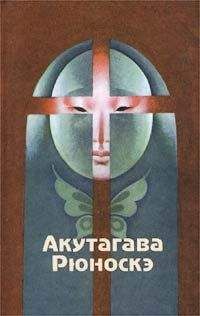— Дышит! Это ты его кулачищем с ног сбил, а он голову о камень поранил. Взвали-ка его себе на спину и неси в сад комендантский. А я буду дорогу освещать. До смотри не упусти, бегать он горазд.
Когда Позднеев вошел в сад, к нему бросился Денисов, сказал взволнованно:
— Анатолий Михайлович! Крауфорд-то… помер…
— Что? — вскрикнул Позднеев.
Он приблизил фонарь к голове Крауфорда. Лицо англичанина было синевато-бледным, глаза закатились, губы раздвинулись — казалось, что он и сейчас улыбается своей последней, но уже не беспечной, а страшной улыбкой.
…Врачебным вскрытием было установлено, что Крауфорд давно уже страдал тяжелой болезнью сердца, с которой все равно прогнил бы весьма недолго. Напряжение в схватке в саду лишь ускорило ее.
В кармане англичанина были найдены сверток с сотней золотых империалов и заготовленная для подписи Лоскутовым расписка о том, что он получает от Крауфорда деньги на известную ему, Лоскутову, цель с обязательством выполнить в недельный срок секретное поручение.
При обыске, на квартире Монбрюна было обнаружено несколько фунтов порошка, который при соприкосновении с просмоленными канатами давал густой дым, а спустя некоторое время канаты самовозгорались.
XVII. Из хутора в Петропавловскую крепость
Все нравилось Ирине на хуторе Крутькова: и бескрайний ковер степи, словно вышитый цветным разнотравьем, и напоенный запахом трав воздух, и цветничок с душистой резедой, розовыми, белыми вьюнами, и вишневый садочек при хате, и люди — особенно люди! Они относились к Ирине с удивительной сердечностью. Даже сумрачный Тихон Карпович всегда находил для нее ласковое слово. По душе пришлись Ирине и молчаливый, сдержанный Павел, и балагур Сергунька, и Алексей, бывший не столько слугой Анатолия, сколько преданным ему человеком, другом его детства.
Сумерки уже спустились на землю, неся прохладу. Окна горницы были широко раскрыты. На столе шумел тульский самовар, были расставлены закуски, два графинчика вишневой наливки. Веселый дьякон станичной церкви Путилин, огромного роста, лохматый, наполнял всю горницу своим могучим рокочущим басом:
— Опять у меня брань велия воспоследовала с супружницей моей Анфисой Леонидовной. Притесняет она меня жестоко, пить бросить велит и к каждой приглядной казачке ревнует. Ох, тяжелы вериги супружеские! Что есть женщина, други мои? О ней недаром сказано в творении одного из достославных отцов церкви нашей, Иоанна Златоуста: «Аще бо все небо было бумагой, море — чернилами, звезды — бесчисленными перьями, то и тогда невозможно описать всех злоухищрений женского себялюбия, лукавства и вероломства».
Все засмеялись, и даже Тихон Карпович скупо усмехнулся краем рта.
А дьякон сказал Павлу:
— Знаю, как любишь читать ты, принес я тебе кое-что, — и он сунул в руки Павла две книги. Одна из них была — проповеди Георгия Богослова, а другая — «Генриета, или похищение монахини пылким гусарским поручиком, в трех частях, с прологом и эпилогом, перевод с французского». Улыбаясь, Павел подумал: «Должно быть, когда учился он в бурсе, неведомыми путями к нему попала».
Тихон Карпович вышел из хаты и направился к конюшне, приглядеть, исправно ли накормил лошадей работник, а дьякон выпил залпом стаканчик наливки и, подмигнув, сказал:
— Пока нет хозяина, давай-ка споем мою любимую в честь наливочки-то… — И, взмахнув вдохновенно руками, он повел мощным басом старинную бурсацкую песню:
Читал я в притчах Соломона,
Что во дни оны
Жил пышно царь Сиона…
Рас-то-чи-тель-но, —
подхватил, точно мягко убеждая кого-то, Сергунька.
И опять сотрясла всю комнату октава дьякона:
Наливочка двойная, наливочка тройная,
Сквозь уголь пропускная…
О-чис-ти-тель-ная, —
снова подхватил Сергунька.
И дальше неслась насмешливо-веселая песня:
Его преосвещенство
И с ним все духовенство
Спились до совершенства,
По-ло-жи-тель-но.
И сам святой владыка
Подчас не вяжет лыка,
И так поет он дико —
У-ди-ви-тель-но…
Дьякон хотел было продолжать песню и уже опять взмахнул рукой, но вдруг приостановился: со степи послышались звон колокольчика и топот лошадей.
«Тройка? Откуда? У нас в станице на тройках никто не ездит», — удивился Павел и тревожно взглянул на Анатолия Михайловича.
Все бросились к окнам.
Возле хаты остановились кони, в последний раз отрывисто звякнув колокольцами. Из крытого возка неловко вылез высокий костлявый фельдъегерь в плаще, покрытом дорожной пылью. Он спросил о чем-то вышедшего навстречу Тихона Карповича. Войдя в горницу, фельдъегерь окинул всех усталым взглядом и сказал деревянным голосом:
— Согласно предписания Военной коллегии повелено мне…
Все замерли, а фельдъегерь, вынув из сумки какую-то бумагу, стал, монотонно, безучастно читать, будто выполнял скучную обязанность, а не рвал нити человеческих судеб:
— «…заключить под стражу, доставить в крепость святого Димитрия Ростовского, а оттуда без всякого промедления в Санкт-Петербург премьер-майора армии Российской Анатолия Позднеева, а с ним его дворового человека Алексея Понизовкина; вдову английского подданного Ирину Крауфорд доставить такожде в Санкт-Петербург; а подхорунжему Войска Донского Павлу Денисову, не подвергая оного аресту, вменить в обязанность явиться в военный аудиториат, в крепости святого Димитрия Ростовского находящийся, для снятия с него показания по делу государственной важности».
Зима была уже на исходе, но в каземате крепости стояла промозглая стужа. Маленькое окошко находилось высоко и было затенено толстыми железными прутьями. Свету поступало в этот каменный мешок совсем мало, и даже в солнечные дни было темно. К вечеру тюремщик вносил в камеру сальную свечу, опущенную в жестяную трубку с водой. По каменному полу бегали крысы, а когда Анатолий спал, прикрываясь одеялом из грубого солдатского сукна, крысы бесцеремонно разгуливали по одеялу. Сначала они казались омерзительными, но постепенно он привык к ним и даже подкармливал хлебом из скудного арестантского пайка.
Во всем равелине царила могильная тишина. Лишь изредка нарушалась она тяжелыми шагами сменяемых часовых и приглушенным боем барабана в крепостном дворе да звоном крепостных курантов.
Мучительно долго тянулись дни, еще тоскливее текли ночи. В камере топили плохо. Нередко Анатолий вскакивал и, чтобы согреться, принимался ходить: пять шагов вперед, пять назад — не разгуляешься…
Бледное, с впалыми щеками, лицо Позднеева заросло бородой, синие глаза ввалились и потускнели, под ними залегли темные круги. Он жил только мыслью об Ирине, надеждой увидеть ее. Он вспоминал все свои разговоры с ней, каждое ее движение, каждый взгляд. Вспоминал, как на прощание она закинула ему на плечи тонкие руки, прильнула к его губам и сказала тихо: «Всегда вместе».
Томилось сердце Анатолия: «Что с ней? На свободе ли? Здорова ли?» — хотя, казалось, не было оснований беспокоиться о судьбе Ирины. Фельдъегерь, который доставил их в Петербург, оказался добрым и отзывчивым человеком. Вместе с ним по прибытии в Петербург Анатолий побывал на Казанской улице, у своей двоюродной сестры Анны Шумилиной, вдовы сенатора, и она охотно согласилась приютить у себя Ирину. Потом фельдъегерь доставил Анатолия к коменданту города, приказавшему, согласно ордеру Военной коллегии, «заключить без промедления в Петропавловскую крепость премьер-майора Позднеева».
Месяца три назад вызывали Анатолия в Коллегию, где его допрашивал генерал-поручик граф Салтыков. Обвинение сводилось к тому, что Позднеев, «увлекаемый своей любовной страстью к Ирине Крауфорд, дал приказание хорунжему Войска Донского Денисову об избиении и незаконном аресте сэра Крауфорда, подданного его величества короля Великобритании, а также нанес сам побои по голове полковнику Лоскутову, следствием чего явилось полное расстройство здоровья полковника, что вынудило оного подать прошение об отставке от службы военной».
Как и предвидел Суворов, за Лоскутова вступился родственник, Салтыков. «Но к этому надо еще добавить, — догадывался Анатолий, — сильное влияние при дворе лорда Витворта, английского посла в России, пытавшегося всячески запутать неприятное для Англии дело».
— Что ответите, сударь, по сему тяжкому обвинению? — спросил строго Салтыков, впиваясь в глаза Анатолия острым взглядом..
Позднеев ответил решительно:
— Приказания хорунжему Денисову об избиении Крауфорда я не давал. Он умер от разрыва сердца, когда пытался бежать и Денисов задержал его, вступив в схватку с ним. Арест полковника Лоскутова, как должно быть известно вашему сиятельству, был произведен по письменному ордеру самого генерала Суворова. Никаких побоев полковнику я не наносил, тем паче, что он не сделал ни малейшей попытки уклониться от ареста, чувствуя, видимо, свою вину.