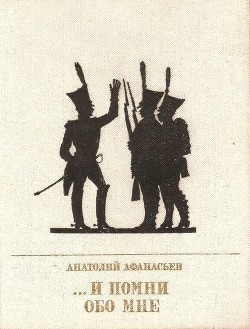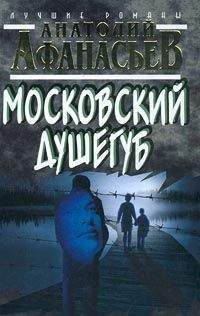Обнялись, расцеловались, уехал Иван. Забрал у крестьянина лошадь и через полчаса уже был за городом, держал путь на Кишинев. Оттуда до границы рукой подать…
Ловят бунтовщика Сухинова. Скачут во все стороны царевы слуги со строжайшими повелениями. Подстерегают на всех дорогах. Как зверя, обкладывают. Большой опыт охоты на людей накоплен в России. Страна огромная, без конца и края, а если со смекалкой и старанием взяться, можно так устроить, что ни одна мышь не проскочит. Но это только кажется. Сухинов-то до сих пор на воле, стремителен и быстр. Сети раскиданы, правда, густые. Опасен, значит, властям безвестный доселе поручик. Вот поди ж ты, один человек всего, какая малость вроде, а сколько людей на ноги поднято, чтобы его вольный путь пресечь. Важен не человек, важна идея устрашения. В стольном Петербурге замученный страхами император готовит, лелеет, вынашивает в сердце грандиозную расправу. Он знает: зло потребно вырвать с корнями, глубоко, чтобы ни один побег не уцелел, не зазеленел новой весной, не пустил свежие ростки. Свободомыслие — такая зараза, которая зреет долго и исподволь, а после разносится по всей земле мгновенно, как холера, не напасешься на нее бараков. Зло надо искоренить так, чтобы не только помыслить наперед о заговорах было страшно, но и от одних воспоминаний люди бы содрогались.
Ловят Сухинова с усердием: одни в надежде на чины и награды, другие по природной склонности к травле и преследованию, а большинство, как издавна повелось, не ведая, что творят. Среди ловцов один из самых ловких и удачливых — советник Савоини, человек непонятного роду-племени, но вполне угодный начальству по причине беззаветной собачьей преданности. В официальных бумагах это служебное качество — рабское усердие — по-другому называется, намного пристойнее. Вот как оценил деятельность Савоини херсонский губернатор в рапорте графу Воронцову: «Действия советника Савоини по началу и продолжению его розысканий показывают отличное его усердие, точность, расторопность и благоразумие и, вместе с тем, удостоверяют, что вся служба его сопровождается сими превосходными и редко соединяющимися в одном лице качествами. Посему поставляю себе в непременный долг усугубить пред вашим сиятельством нижайшую и убедительнейшую просьбу об исходатайствовавши ему чина коллежского асессора…»
В Александрию Савоини прибыл чуть позже, чем Сухинов покинул город. Хотя могли они друг с другом и встретиться. Савоини организовал плотное наблюдение за братьями Сухинова. У него было действительно: превосходное чутье. За Степаном он самолично ходил по пятам. Даже пытался сойтись с ним под видом путешествующего праздного любителя старины. Но Степану было не до того, чтобы заводить знакомства с богатыми бездельниками. По улицам он прошмыгивал словно украдкой, сторонился прохожих, был погружен в себя и, вернувшись со службы, безвылазно сидел дома, Савоини заподозрил, что птичка уже была в клетке, да, видать, улетела. Первый обыск на квартире Степана ничего не дал. На все вопросы о брате Степан отвечал так путано и затравленно, точно его спрашивали о явлении антихриста.
В начале февраля Сухинов обнаружился в городе Дубоссары, под Кишиневом. Он не спеша ехал по принарядившемуся ради воскресенья городу, чуткими ноздрями ловил запахи близкой весны. На смуглом лице его играла мечтательная улыбка. Он не похож был на человека, которого преследуют. А последние дни ему пришлось тяжеленько. В пути подхватил жесточайшую простуду и двое суток провалялся в каком-то заброшенном амбаре на промерзшем проволглом сене. Чуть не околел. Подползал к сквозящей ветром двери и обгладывал ледяные сосульки — пил. Вдобавок его чуть не сожрали мыши. Даже паспорт прогрызли в двух местах. Однако он опамятовался, переборол болезнь и теперь въехал в Дубоссары полный радужных надежд. Он знал, что цель близка, и не сомневался, что ее достигнет. В карманах позвякивали медяки — какая ерунда. Руки целы, голова на месте — не пропадет. Правда, все чаще охватывало его тяжелое смутное чувство напрасности и ненужности бегства. Чем упорнее, преодолевая все препятствия, осторожный, как лиса, и выносливый, как буйвол, он подвигался к последней черте, тем явственнее ощущал себя чем-то вроде бильярдного шара, который по инерции подкатывается к лузе, но вряд ли туда нырнет. И остановит его, он чувствовал, не внешнее препятствие, а внутренняя, с каждым часом усиливающаяся душевная ломота. Приблизясь к краю России, он смотрел не вперед, а оглядывался назад, пытался хоть в воображении дотянуться до тех, кого оставил, и чугунное беспокойство его готово было прорваться горловым криком. Он сумел бы убежать от царской погони, но убежать от себя никому не дано…
Сухинов улыбался и радовался, видя, что он еще дома, еще слышит русскую речь, еще все понимает вокруг, и до того шага, который переменит все это, еще осталось какое-то время. На улице в Дубоссарах им овладела беспечность, неестественная в его положении. Он первым делом наведался на базар, кричащий, переливающийся блеклыми, нежными, предвесенними красками юга, и с самым беззаботным видом начал прицениваться к лошадям, и даже поторговался с горластым хохлом в длинноухом собачьем треухе, который запрашивал за худущую, облезлую кобылу двести рублей. Сухинов начал торг с того, что предложил хохлу отдать ему, Сухинову, червонец за то, что он отведет лошадь на живодерню. Мужик не обиделся, оглядев Сухинова с головы до ног, посоветовал ему купить задешево веревку для подпояски. Он так развеселил себя шуткой, что чуть не свалился с саней, на которых у него была на тряпице разложена снедь и стояла бутыль с молоком. Он лихо из нее отхлебывал, обливая усы и бороду. Сухинову тоже вдруг захотелось испробовать холодного, пенистого молочка. Он наскреб в кармане остатки капитала и протянул крестьянину:
— А ну плесни, хозяин, не поскупись.
Мужик отвел его руку с деньгами, щедро наполнил кружку до краев, протянул Сухинову ломоть хлеба и кус вареного мяса:
— Прими, раб божий, не погнушайся.
Сухинов выцедил кружку, наслаждаясь каждым глотком, как будто пил не ледяное молоко, а вбирал в себя последние крохи свободы.
Поговорили серьезно.
— А за мою сколь выручу? — спросил Сухинов.
— Да чего ж, пятьдесят можно взять.
— Ее бы похолить, подкормить недельку-другую, думаю, и больше бы можно.
— У коня вид должен быть — то верно, — согласился хохол. — Только ведь, кто с понятием, тому на это наплевать. Тот не одними глазами глядит, а нюхом чует.
— Оно конечно, — согласился Сухинов, от молока он как-то подобрел, окончательно расслабился. И стал на короткое время счастлив. Походил еще меж торговых рядов, полюбовался товарами, обиняком расспрашивал приезжих людей, как безопасней и вернее добраться до пограничной реки Прут.
Потом он подыскал себе жилье. У одного дома на окраине, который приглянулся ему тем, что сразу за ним начинались овраги и густой кустарник, кликнул хозяина. Сговорились быстро, правда, получилась маленькая заминка из-за оплаты. Сухинов пообещал расплатиться на другой день. Впоследствии, когда хозяина будет допрашивать чиновник особых поручений Рубанович, тот скажет, что сразу разгадал в постояльце злодея, но поостерегся донести единственно по причине малодушия, так как дом его находится неподалеку от леса.
На другой день с утра Сухинов заявился в дубосcapскую полицию и там стал на учет. Тугодумный пристав Моисеев добросовестно записал его в регистрационную книгу.
— Что ж ты пачпорт жевал, что ли? — недовольно пробурчал Моисеев, с трудом разбирая сухиновский почерк.
— Чем богаты, тем и рады, — туманно, но с достоинством ответил Сухинов.
Из участка Сухинов опять поехал на базар и там продал лошадь, не торгуясь, очень дешево. Покупатель, городской купчина, выгодной сделке, обрадовался, но смотрел на Сухинова покровительственно, будто видел его насквозь. Сухинов в этот день многое делал как бы нарочно, чтобы вызвать к себе подозрение. Он вручил хозяину задаток со словами: «Ну, коли добром все обойдется, тогда и остальные заплачу». Потом объявил, что съезжает на несколько дней, но обязательно вернется. При этом глядел в сторону, а из-за пояса под распахнутым тулупчиком топорщилась рукоятка пистолета. Слепому ясно, на гиблый промысел снарядился человек.