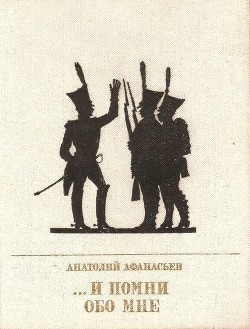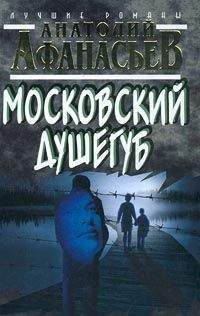Сухинов поехал в Кишинев и снял там вторую квартиру. Он заметался…
…По скользкой, подмороженной земле идти было трудно, как по глине. С опаской переступал он подозрительные проталины. Короткий овчинный тулуп мало согревал, его познабливало от сырости. Вокруг, насколько хватало взгляда, было пустынно, но время от времени он резко оглядывался. Изнуряющая привычка, приобретенная за дни унылого побега. Он ничего не мог с собой поделать и на каждый невнятный звук непроизвольно поворачивал голову. Какие-то мерзкие тени выглядывали из-за кустов. Мысли путались, он никак не мог вспомнить, какое нынче число. Но точно знал, что февраль, и знал, что скоро весна.
Иногда он разговаривал сам с собой, но обращался неизменно к Муравьеву-Апостолу. Шептал ему: «Ничего, Сергей Иванович, добежим. А там где-нибудь отсидимся, отогреемся. Черта с два возьмут они нас голыми руками!» Спохватывался и холодел от мысли, что Сергея Ивановича как раз уже взяли.
Около полудня Сухинов добрался до пограничной реки Прут.
Река, была неширокой в этом месте, низкие берега покрыты кустарником. Он спустился вниз и осторожно потрогал ногой придушенный снегом лед. Выдержит! Теперь у всего государства Российского с его пушками и казематами, с его жестоким царем, с его холопами в мундирах не хватит рук, чтобы удержать на этом берегу Ваню Сухинова. Плевать он на них хотел. Вот именно хотел бы он плюнуть в расплывающуюся перед его воображением огромную, раскосую, скалящуюся харю… Сухинов рассмеялся искренне и задорно. Отошел от берега, скинул на землю торбу, уселся на нее и начал жадно грызть зачерствевшую хлебную корку. Эх, да о чем говорить. Разве пропадет он на чужбине, ему ли, битому и резаному, страшиться неизвестности? Из колодца он вспоен, саблей вскормлен. Поди за ним угонись. Надо большую удачу иметь, чтобы за ним угнаться…
Иван Сухинов сидел у реки Прут, смеялся и плакал. Если бы кто увидел его сейчас со стороны, наверное, подумал бы — пропащий человек. Страшное у него было лицо, иссеченное смехом, омытое слезами, застывшее в жуткой гримасе. Он себя подбадривал, улещивал и подхлестывал, но заставить встать не мог и все ниже склонял отяжелевшую голову.
Он точно грезил. В его воображении оживали картины недавнего прошлого, дорогие товарищи протягивали ему руки, и он снова и снова ощущал особое пожатие — пароль сообщества, милые лица улыбались ему из мрака. Это ведь неправда, думал он, что человек один раз рождается. Нет, неправда. Первый раз рождается человек от матери, а второй раз, когда обретает братьев по духу. Прожил бы Ваня Сухинов глухую жизнь, отшагал положенные марши в стае опричников царевых, незрячих, озлобленных слепотой и невежеством людей, — да вот выпало ему счастье, встретил чистых, святых людей, и они приняли его в свой круг как равного.
Где они теперь — дорогие, бесценные, отчаянные?
Краска стыда залила его щеки, он вскочил на ноги и зашагал вдоль реки. Поглубже старался вдохнуть свежий ветер.
«Ты спрашиваешь, где твои братья? Они там, куда не приходят по доброй воле. Их сковали железом и бросили в темницы. Их ждет позор бесчестья. А ты, поклявшийся быть с ними до конца, беги и прячься. Если ты раб, Ваня, то и живи по-рабьи».
Сухинов усмехнулся и провел ладонью по горевшему лицу. Последний раз в рассеянности взглянул на тот берег. Блеклое солнце золотило поля и верхушки недалекого леса. Он поднял тощую торбу и зашагал прочь…
Вернулся в Кишинев, опустошенный, раздавленный, смертельно усталый. У себя на квартире просидел почти безвылазно несколько дней. Еще в Дубоссарах он написал и отправил письмо брату Степану. Там в каждой строчке печаль человека, утратившего желание сопротивляться.
«Спешу тебя уведомить, что еще, слава богу, жив и здоров и докудова счастлив, но без приюта и места…
P. S. Пожалуйста, любезный друг, не можно ли будет выпросить у батюшки денег, хотя рублей 50 или сколько можно будет; ибо ты сам знаешь мое теперешнее положение, что крайне нуждаюсь во всем, что даже остаюсь без дневного пропитания. Пожалейте обо мне…»
Сухинов опасался, что письмо перехватят, его и перехватили. Губернатору пришла в голову коварная мысль дать объявление о пятидесяти рублях, якобы пришедших на имя Сухинова, выманить голубчика из норы и схватить, когда он явится за «отцовскими» деньгами. Чиновник Рубанович, не теряя ни минуты времени, бросился в Дубоссары, как гончая, спущенная с цепи, и вскоре вышел на пристава Моисеева. Кольцо вокруг Сухинова сжималось, а он сидел в своей комнате, не запирая двери, безразличный ко всему на свете. Как-то хозяин к нему заглянул и, осторожно улыбаясь, сообщил, что ищут какого-то Сухинова, которому хотят вручить пятьдесят рублей.
— Интересно, — отозвался Сухинов. — Но это не меня ищут, к сожалению. А еще тому другому Сухинову ничего не желают вручить? Может, там не только пятьдесят рубликов, а чего-нибудь получше?
Хозяин ретировался. Он явно догадался, что его постоялец не тот, за кого выдает себя, и как будто даже хотел помочь ему.
Но Сухинов уже не нуждался ни в чьей помощи. Последние его дни на свободе были особенно тягостны. У него не было уверенности: нужна ли хоть одному человеку на свете его жертва, не следовало ли все же покинуть Россию? А если уж он остался, то не лучше ли, не достойнее ли покончить с собой? Сухинов не страшился смерти, но чувствовал отвращение, свойственное обыкновенно простым людям, к показному «красивому» уходу из жизни. Услышав о так невероятно скоро пришедших пятидесяти рублях, с которыми его разыскивают любезные чиновники, он мрачно усмехнулся. Он понял, что загнан и окружении ему стало легче.
Сухинов был из тех людей, которым невыносимее всего ожидание, а в решающие часы они сохраняют высокое присутствие духа.
Он как раз обедал в своей комнате, запивая булку водой, когда вошел полицмейстер и уставился на него в упор. Дюжий человек с лицом, похожим на топор.
Сухинов жевать не перестал, а только судорожно сглотнул. Они разглядывали друг друга под мерное движение челюстей Сухинова. Полицмейстер, не произнеся ни слова, удалился. Сухинов спокойно дообедал.
Ждать ему пришлось недолго. Вскоре появился генерал Желтухин, настороженный и настырный. За его спиной маячил полицмейстер, лицо его сияло предвкушением редкостной удачи.
— Кто вы, сударь? — спросил Желтухин.
— Тот, кто вам нужен, — поручик Черниговского полка Сухинов, — улыбнулся Иван Иванович. — Да вы не волнуйтесь, генерал, я больше убегать не стану… Какая нынче ранняя весна, вы не находите?
— Извольте следовать за мной!
— С удовольствием! — Через короткое время он был доставлен на гауптвахту, где ему заковали руки и ноги.
Оставшись один, Сухинов с хрустом потянулся и, довольный, приготовился обдумывать свое новое положение. С любопытством, осторожно он прислушивался к себе. Та великая ярость, которая давала ему силы убегать, скрываться и нападать, истаяла, отмерла. Он был опустошен, как разом выплеснутый сосуд. В этом блаженном опустошении не было боли.
«Хорошо, — подумал Сухинов. — Как хорошо! Наконец-то отдохну, высплюсь, а потом уж соображу, что делать дальше…»
Часть вторая
В ОКОВАХ
1
Пристав Кристич, сопровождавший Сухинова из Одессы в Могилев, был человек необузданных страстей. За участие в поимке поручика ему было обещано годовое жалованье. Деньги он собирался прокутить с жизнерадостной и аппетитной вдовой в Кишиневе. Вдова была к нему добра уже полгода, но постоянно требовала подтверждения любви в виде подарков. «Все прах и тлен, — думал Кристич, скача сбоку от телеги, на которой лежал закованный Сухинов. — Деньги, женщины, вино — в них ищет человек забвения, потому что боится открыть о себе правду. А правда в том, что вся наша жизнь есть тлен и прах».
Долгие годы прозябания на службе сделали Кристича в своем роде философом, и иногда его мысли принимали такой оборот, что, узнай о них начальство, Кристичу бы несдобровать. Однако даже заподозрить Кристича в чем-либо предосудительном казалось немыслимым, ибо в исполнении служебных обязанностей он проявлял завидное рвение, был крут и непреклонен.