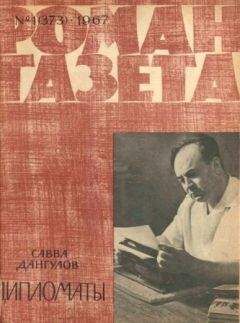Френсис полагает, что совершена ошибка и посланник будет освобожден. Он даже полагает (о чудо!), что освобождение Диаманди подкрепит справедливое доверие цивилизованных стран к рабоче-крестьянскому правительству. Так прямо и произнесено: «к рабоче-крестьянскому правительству».
«Что же это может означать? — не мог не спросить себя Репнин. — Откроют дорогу русским войскам или воспрепятствуют этому, теперь уже объединив силы? Очевидно, откроют дорогу войскам. Но в обмен на освобождение Диаманди? Быть может, так, но это еще вопрос будущего. По крайней мере, Ленин ничего не обещал, как, впрочем, и Френсис. Все решится в ближайшие часы. Френсис прямо сказал об этом: в ближайшие часы».
Дипломаты покинули Смольный.
Ленин попросил Репнина остаться. Николай Алексеевич слышал, как автомобили отошли от подъезда Смольного, и мысленно последовал за машинами: дипломаты сейчас едут по городу медленно, распушив флаги, по Невскому, обязательно по Невскому, потом с Литейного на Фурштадскую — путь хоть и не самый короткий, но зато самый выигрышный. Державы Согласия и их друзья демонстрируют единство. Одной этой причины достаточно, чтобы совершить экскурсию в Смольный. Давно не видел Невский такого зрелища. Женщина в кружевном чепце приблизилась к окну: «Наконец-то!» Человек в котелке локтями проложил себе путь к борту тротуара: «Я же говорил!» Мальчик в гимназической шинели, приметив звездно-полосатый флаг, едва не сломал лакированный козырек форменной фуражки: «Viva les Etas Unis!»[1] Старик в дохе скептически шевельнул тюленьими усами: «Большего они уже не могут». Немного, однако, надо, чтобы возликовал нынче Невский.
Быть может, они уже добрались до Фурштадской. В зале-ротонде американского посольства они сейчас держат совет. Ленин явно не пошел на уступки. Больше того, уступок требует он, — разумеется, в ответ на освобождение посланника. Отвергнуть требование Ленина? А не бессмысленно ли это? В конце концов он отстаивает правое дело — тысячи людей, кстати, ни в чем не повинных, обречены на холод и голод. Не исключено, что они обратятся к оружию, даже вопреки желанию Ленина.
Уже вечером раздался звонок из американского посольства.
Телефонограмма. Нет, не только от Френсиса-дуайена, но и от американского посла.
Стиль телефонограммы торжествен. Таким стилем пишут приветствия по случаю рождения престолонаследника или избавления дружественного народа от чумы.
Френсис провозгласил: если Диаманди будет освобожден, то он, Френсис, будет рассматривать арест румынского посланника как средство протеста Советского правительства против недопустимого (именно эта формула: недопустимого!) образа действий румынских властей.
Ленин отвел глаза от телеграммы, он посмотрел на Репнина, точно увидел его впервые.
— Вы хотите что-то сказать, не так ли?
— Владимир Ильич, я все думаю, почему вы не заявили, что Диаманди для вас всего лишь частное лицо? — спрашивает Репнин. — Более веского довода не было, и вы им пренебрегли. Почему?
— А вы полагаете, что к этому доводу надо было обратиться при любых обстоятельствах?
— Но этот довод дал бы нам чистый выигрыш без риска…
Ленин пошел по комнате (руки сжаты и поднесены ко лбу).
— Да, этот довод дал бы нам чистый выигрыш, — говорит Ленин, не останавливаясь, он будто советуется сам с собой. — Но к доводу этому надо было обратиться в крайнем случае. — Он останавливается. — В самом крайнем… — вдруг произносит он. Ленин сейчас достиг Репнина, взглянул на него. — Быть может, я не прав, — проговорил Ленин, ему не хочется изрекать категорические истины. — Но сказать, что Диаманди частное лицо, значит, дать понять дипломатам, что и их положение в Петрограде своеобразно. — Ленин смотрит на Репнина — какое впечатление эта фраза произвела на него. — В конце концов чем нынешний статус Диаманди отличается от положения любого из дипломатов?
Репнин задумался: в доводах Ленина есть резон.
— Разумеется, ничем, — заметил Репнин, — но, быть может, надо было об этом сказать.
— А есть ли смысл?
Ленин улыбался — или он почувствовал, что одержал верх в этом нелегком споре, или улыбнулся вот так непосредственно, чтобы просто ободрить Репнина: он великодушен и отнюдь не намерен загонять противника в угол.
— Это бы решило спор в нашу пользу сразу, — сказал Репнин теперь уже больше по инерции.
Владимир Ильич рассмеялся, не скрывая хорошего настроения. Оно улучшилось на глазах. Видно, он решил проверить себя, затеял спор и убедился, что прав.
— Решительно нет нужды обращаться к крайним средствам, — сказал Ленин. — Принять этот довод, значит, бросить вызов всем дипломатам и обратить их против себя, зачем? Вот если бы все иные средства не дали результата? Кстати, почему не было среди них англичанина? Не потому ли, что уехал Бьюкенен?
— Может быть. К тому же в этой игре потери возможны, а приобретений никаких. Англичане опытны — они не спешат утратить свободу рук.
— В их нынешнем положении это важно? — спросил Ленин.
— Весьма, — подчеркнул Репнин. — В дипломатии нет позиции выгоднее и в том случае, если есть желание отношения улучшить, и в том, если осложнений не избежать.
Ленин задумался.
— Последнее наиболее вероятно. Прелюбопытно, что думает на этот счет товарищ Дзержинский, — протянул он руку к телефону, стоящему на столе. — Даже интересно, что думает он.
Открылась дверь, и вошел человек со строго внимательными глазами — «Червонный штандарт», так назвал его Репнин про себя. Ленин представил его Репнину.
— Пусть на этот нелегкий вопрос ответит товарищ Дзержинский, — сказал Ленин.
Репнин вновь услыхал: «Дзержинский», и неосознанно, по самому звучанию этого имени, по самому сочетанию этих букв, поставленных именно в таком порядке — «Дзержинский», тревожным ветром пахнуло на него. Нет, он не вспомнил при этом ни мрачные рассказы о полуночных налетах на дома коллег и друзей, ни печальные вереницы людей, идущих по Миллионной и Моховой под охраной кожаных курток. Он воспринял это имя без всего, что могло бы ему сопутствовать, и тем не менее беспокойство объяло его.
— Я не думаю, чтобы англичане так повели себя случайно, — возразил Дзержинский и кончиками длинных пальцев коснулся лба, рука у него была сухой и крепкой. — У посла своя позиция, как вы знаете. — Ой взглянул на Репнина: очевидно, встреча с Репниным была для него не в такой мере неожиданной, как могло показаться Николаю Алексеевичу. — Он единственный из дипломатов, кто считает, что бесполезно заставлять русских продолжать войну. Результат такой политики — ненависть русского народа к союзникам.
— Вы полагаете, такую же позицию займет и преемник английского посла?
Репнин заметил, как сверкнули темные глаза Дзержинского.
— Нет, мне так не кажется, Владимир Ильич. Но на всякий случай… посол не хочет отступать от своей позиции.
— А как вы думаете? — обратился Ленин к Репнину.
Репнин поднял глаза — Дзержинский смотрел на него в упор, с той твердой пристальностью, с какой смотрел вчера, когда они встретились в приемной Ленина, с какой смотрел, наверно, прежде, когда шел (ничто не могло отвратить от Репнина этой мысли!) каменным трактом и тоскливо и грозно гремел кандалами. Странное дело, но эмоционально Репнину не хотелось согласиться с Дзержинским вот так легко, но всего лишь эмоционально.
— Я, пожалуй, согласен, — промолвил Репнин, чувствуя, что эти три слова стоили ему крови.
Репнин вышел из кабинета Ленина. Ему казалось, что Ленин жестоко сшиб его с Дзержинским. Если бы Ленин знал, что думает Николай Алексеевич о Дзержинском, то он, Ленин, наверно бы, горько посмеялся над Репниным, назвал бы это суеверной чепухой. Случайно или нет, но все поляки, с которыми когда-либо общался Николай Алексеевич, ничего не хотели знать, кроме польской свободы. В известной формуле «За нашу и вашу свободу» их, по существу, устраивала первая часть формулы. Теоретически, как полагал Репнин, должны быть и другие поляки, но Николай Алексеевич таких не знал. Был ли Дзержинский иным?
Репнин не мог забыть сегодняшней встречи с дипломатами. Так было и прежде (наверно, это профессионально для дипломата и не одному Репнину свойственно): после того как событие произошло, Репнин, оставшись один, дотошно его исследовал. Он разделял точку зрения, которая, как утверждали друзья по министерству, принадлежала старику Гирсу: «Чтобы видеть все грани предмета, надо уметь перевоплощаться не только в своего господина, но и в своего врага». Сегодня произошло нечто любопытное, большее, чем ожидал Репнин. Как будто бы корпус выступил едино, а в действительности был разобщен.
Нулансу, чтобы быть на высоте, недостает равновесия и, пожалуй, лояльности к противнику. Репнину кажется, что это как раз тот тип посла, которого постоянно одолевает искушение говорить своему правительству то, что правительству приятно, а не то, что ему надлежит знать. Даже интересно, как отсутствие мудрой целесообразности и чувства равновесия может лишить француза качеств, которые испокон веков свойственны галлам: стремления к логике, остроты глаза и ясности ума, характерного для француза образа мышления, который хочется назвать юридическим, хоть это и не совсем точно.