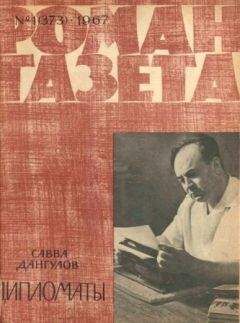Нулансу, чтобы быть на высоте, недостает равновесия и, пожалуй, лояльности к противнику. Репнину кажется, что это как раз тот тип посла, которого постоянно одолевает искушение говорить своему правительству то, что правительству приятно, а не то, что ему надлежит знать. Даже интересно, как отсутствие мудрой целесообразности и чувства равновесия может лишить француза качеств, которые испокон веков свойственны галлам: стремления к логике, остроты глаза и ясности ума, характерного для француза образа мышления, который хочется назвать юридическим, хоть это и не совсем точно.
У Репнина создалось впечатление, что и Френсис действовал с оглядкой. Он поступал так, полагает Репнин, не столько из робости, сколько из желания сообразовать свое мнение с мнением высокого лица в государственном департаменте, которому посол подчинен, мнением, которое не очень известно послу да вряд ли ясно и самому высокому лицу. Парадоксы американской дипломатии? Да, пожалуй. Уверенность американского дельца, действующего на мировых рынках, — его умение быстро мыслить и ориентироваться, его вера в партнера, его решительность, которая почти всегда безошибочна, его способность идти на риск, его интуиция в конце концов стали нарицательными. Наоборот, американский дипломат, как полагает Репнин, явление совершенно противоположное: он подозрителен и лишен инициативы. Совершенно очевидно, что позиция Френсиса была иной, чем позиция Нуланса, как очевидно и то, что в позиции выжидания американский посол мог быть и не в такой степени последователен. Однако Френсис принял эту позицию, так думает Репнин, все по той же причине: он знает, что новый строй России враждебен ему, но какова должна быть точка зрения посла. Френсису неясно. На всякий случай он принял позицию, в которой, строго говоря, мало смысла.
А как повели бы себя англичане, которых сегодня не было? Очевидно, парадоксы есть и здесь, парадоксы не меньшие. Английский дипломат, как это хорошо знает Репнин за годы жизни в этой стране, не похож на дипломата, как его представляет толпа. Больше того, внешне он являет собой нечто дипломату противоположное. Он молчалив и замкнут. Он откровенно пренебрегает острым словом, которое так импонирует публике. «Остроумие — не дипломатическое качество» — это почти его девиз. Казалось бы, дипломат такого типа не может рассчитывать на успех. Но жизнь показывает другое. Английский дипломат — человек здравого смысла. Он, пожалуй, даже человек золотой середины, если полярными противоположностями будут способность человека парить в небесах и передвигаться по грешной земле, преодолевая ее рытвины. Выше всех благ такой дипломат ценит терпение. А там, где есть терпение, есть и умение склонить партнера принять твою точку зрения или, по крайней мере, приблизиться к ней. Хороший английский дипломат следовал этому правилу всегда. Правило это тем более симпатично ему сегодня, когда Британия перестает быть владычицей морей и ее дипломат зависит от доброй воли партнера больше, чем когда-либо прежде. Кстати, и к этому выводу английский дипломат пришел благодаря здравому смыслу. Иначе говоря, в событии, которое произошло сегодня, английский дипломат не обнаружил бы своих антипатий, как Нуланс, и не отстрадался бы в такой мере, как Френсис. Он действовал по… Репнину. Да, Репнин любит себя поставить на место человека, который ему противостоит. Старик Гирс прав, когда утверждал: хорошему дипломату, чтобы видеть все грани предмета, надо уметь перевоплощаться не только в своего господина, но и в своего врага.
Уже затемно Репнин покинул Смольный.
Он шагал городом, в который словно попал впервые: парки совсем весенние, мокрые заборы, ветхие двери особняков со сдвинутыми набекрень козырьками навесов. Шагал напропалую, весь полоненный мыслями о прошедшем дне. Пришли в движение стопудовые камни сознания: что-то продолжало свершаться и в жизни Репнина, неумолимо свершаться, хотя камни пришли в движение с трудом, как и надлежит стопудовым камням.
Репнин поехал на Охту.
Анастасии Сергеевны дома не оказалось. Ее горничная, молодая финка, рослая и крепкоплечая, с большими розовыми руками, которые она будто только что вынула из воды, встретила Репнина радушно и, улыбаясь, сказала, что хозяйка уехала утром и, очевидно, вернется к обеду.
— Вы могли бы подождать, — добавила горничная тем доброжелательно-участливым тоном, который больше самих слов свидетельствовал, что горничная безошибочно восприняла тон и интонацию, какие были приняты по отношению к Репнину в доме Анастасии Сергеевны.
Вечернее солнце лежало на скатерти, совсем дачной. Стояли венские стулья, из того века, с выгнутыми, чуть-чуть откинутыми назад спинками. Над столом висела нарядная керосиновая лампа под абажуром, тоже из того века (последнее время в Питере часто выключалось электричество). Со стены глядела любительская фотография. Репнин всмотрелся: Настенька. Совсем девочка. Идет степной дорогой. Юбка облепила ноги — ветер встречный. Воротник белой блузы распахнут, видна шея, обожженная солнцем. Косынка, тоже белая, простенькая, сбилась почти на затылок, концы, острые, как два крыла, разлетелись по сторонам — ничто так не передает стремительного порыва ее фигуры, как эта косынка. А позади, поотстав на два шага, едва поспевая за нею, идет человек в полотняной рубахе-толстовке и фуражке путейца. В руках у него палка, глаза едва видны из-под стекол очков, выражение глаз ликующе-восторженное, молодое. Видно, настроение Настеньки передалось и ему. Отец? Очевидно, он. А кругом степь, виден склон холма, полоска леса на горизонте и большое небо, все в облаках, ярко-белых и округлых, как мокрые простыни, вздутые ветром. Кто-то подсмотрел этот счастливый миг в жизни человека.
У ног Репнина лег электрический блик — в первой комнате зажгли свет.
— У нас есть кто-нибудь? — Голос Настеньки, радостно-возбужденный, почти счастливый. — Входите, Коля.
Значит, она не одна? Репнин быстро пошел ей навстречу. Еще до того как он увидел ее, в комнате вспыхнул свет.
— Господи, кого я у нас вижу! — В ее голосе не столько радость, сколько испуг, это Репнин услышал явственно. — Как вы сюда попали. Николай Алексеевич?
— Я жду вас уже полтора часа, — произнес он и замолчал: из первой комнаты послышались шаги.
— Вот что. Коля. Располагайтесь и займите гостя, а я управлюсь на кухне, — обернулась она к своему спутнику. Но у спутника Настеньки это не вызвало радости.
— Достопочтенная Анастасия Сергеевна, — произнес он. — Накормите меня, а уж потом… может, займу гостя, а может, и не займу. — Он посмотрел на Репнина без улыбки. — Что делать будем: в Питере, говорят, хлеба ни крошки.
— Тогда идите, Коля, на ту половину, я сейчас приду, — указала она глазами на соседнюю комнату.
Она взглянула на Репнина, потом на дверь, в которую прошел матрос:
Мой ученик… Николай Маркин.
Репнину не понравился ее тон — слишком небезразличный к гостю.
— Погодите, это какой же Маркин? — поинтересовался Репнин. Неожиданная догадка встревожила его. — Не тот ли, что захотел прочесть тайные договоры?
Настенька улыбнулась — открытие Репнина было ей определенно приятно.
— Тот, Николай Алексеевич.
Репнин помрачнел. Тот самый матрос из Кронштадта, о котором говорил Илья в последний раз. Безвестный матрос, пришедший по призыву революции в святая святых империи, чтобы предать гласности тайное тайных. Но вот загадка: как проник простой человек в тайну шифра? Какой потаенной стежкой добрался до заветного ядра, посредством какого дива?.. Наверно, упорством и дотошностью, которые пронес через века злой тьмы и благодаря которым выжил — непросто было выжить мужику на Руси.
— Мой ученик, — сказала Настенька и вновь улыбнулась. Репнин заметил: в течение пяти минут, пока продолжался разговор о Маркине, она посветлела.
— Вы к нам из дому? — вдруг спохватилась она.
— Нет… дома был еще утром.
— Ах, и вы, наверно, голодны… я сейчас, — заторопилась она.
Тотчас в соседней комнате загремели крепкие шаги Маркина — наверно, матрос успел поесть и возвращался к Репнину. Николай Алексеевич ощутил нечто похожее на смятение. Отчего бы это? Что произошло сейчас, какие подземные пласты сдвинулись, если встреча с простым матросом вдруг заставила Репнина так встревожиться?
— Анастасия Сергеевна как-то говорила мне о вас, — произнес Маркин, быстро входя в комнату. — Курите? — Он достал коробку «Зефира» и распечатал ее. — Прошу…
Репнин взглянул в лицо матросу и обомлел: так это вон какой Маркин! Два разных человека соединились вдруг для Репнина в одном лице: тот матрос из Кронштадта, о котором говорила Настенька, и другой, тоже матрос… Репнин вспомнил туманный, с изморосью день 4 ноября, огни в окнах Зимнего дворца, тусклые, с больной желтинкой, какими они бывают только днем, грязно-серый квадрат картона на дверях министерства, одним своим видом объяснивший все, что стряслось в эти дни с Россией. Картон сообщал всем, кто этого еще не ведал, что сегодня в 16.30 (так и было начертано по-военному: в 16.30!) чиновникам иностранного ведомства надлежит быть на Дворцовой, шесть… Репнин явился на Дворцовую и поднялся к себе в кабинет. Однако, взглянув в окно, увидел Мойку, сейчас почти черную, и штыки патрулей, движущихся вдоль реки. А потом был парадный зал министерства, люстры и бра, зажженные, как на погибель, и многократ усиленные зеркалами, торжественная тишина, словно перед большим приемом, и синие губы товарища министра Петряева, словно он только что выбрался из студеной речки на знойное солнышко. Это сочетание парадного мундира и синих губ все объясняло.