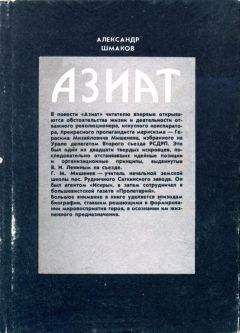— Я хотел, — сказал он, сдерживая волнение, — чтобы вы тоже коснулись земли, принявшей прах нашего учителя. Поклянемся и мы быть верными делу нашей социал-демократической рабочей партии.
Рогожников быстро встал, снял форменную фуражку, посмотрел на людей. Все тоже встали, сняли картузы, повторили слова Ленина, произнесенные на могиле Маркса.
Герасим мог бы сказать сейчас, что люди эти будут следовать только одной дорогой, что бы ни случилось с ними и как бы ни была трудна их борьба за правду, исповедуемую большевиками.
Рудокопы молча присели на камни. Дмитрий Иванович подбросил в костер сушняку и стал слушать Мишенева, как слушал бывало учителя долгими зимними вечерами. В душе он гордился Мишеневым. Ладный. Как здорово поднялся. Побывал на краю света — с самим Лениным встречался.
Он морщил вспотевший лоб, сдвигал густые брови, вникая в слова Михалыча. И, хотя далеко не все, что говорил Герасим, укладывалось в голове, он верил Михалычу. Тот был рядом с Лениным. Своего учителя-то он знал давно. Башковитый. Умеет постоять за правду: себя не пощадит, а сделает доброе для рабочего человека. Хотелось дожить до той поры, о которой говорил Михалыч. Рудокоп огорчался только тем, что здоровье стало неважнецкое. Едва ли дотянет до этой самой разумной и во всем справедливой жизни. Много сил придется потратить, немало горя перенести, пока все будет так, как говорил Михалыч.
Мишенев смолк, оглядел рудокопов. Каждый сейчас по-своему старался понять сказанное им.
Баском заговорил Рогожников:
— Теперь борьба с меньшевиками должна стать тем оселком, на котором будет испытываться наша принципиальность, и прежде всего, русской интеллигенции…
Последние слова Рогожникова несколько омрачили Мишенева:
— Важнее всего, Владимир Георгиевич, чтобы в этой борьбе нас поддержали сердцем и умом они, — Герасим указал на сидевших рудокопов.
Лоб Рогожникова наморщился. Он протестующе махнул рукой, но потом согласился:
— Конечно, рабочие — главная наша опора в борьбе.
— Основа основ нашей партии, — осторожно поправил его Герасим, — самый надежный ее пласт.
Рогожников взглянул на Мишенева прямо, даже вроде неприязненно, но ничего не сказал. Видимо, приотстал, придерживается старых взглядов на роль интеллигенции в политической жизни и борьбе, а Мишенев подходит к оценке ее с новых, съездовских позиций.
Инженер коснулся рукой седеющего виска, настороженность в глазах его погасла. Он спокойно заговорил о том, что теперешние опасливые времена подпольной и конспиративной работы потребуют большого напряжения и осторожности, а главное — дисциплины. Преследования социал-демократов в губернии продолжаются, филеры и жандармы изощряются. Потому очень важно сейчас беречь друг друга, предостерегать, соблюдать строжайшую дисциплину и конспирацию, чтобы не провалить общее дело.
— Сегодня мы пользуемся свободой слова здесь, у Шихан-горы, — говорил Рогожников, — а придет время, и рабочие установят свободу слова на заводах, в городах, во всех деревнях. Люди будут равными. К этому мы идем, об этом говорил и делегат съезда.
— Михалыч! — вдруг обратился Дмитрий Иванович к Мишеневу и глухо кашлянул: — Ежели я правильно кумекаю, то важно теперь поддержать большевиков, а значит, и товарища Ленина.
Герасим подтвердил:
— Верно, Дмитрий Иванович, а главное — не падать духом, беречь нашу партию. Об этом говорил Владимир Ильич.
Дмитрий Иванович оглядел рудокопов и попросил:
— Напиши от нас товарищу Ленину: будем беречь партию. Так я говорю, ребята?
— Верно, Митяй, — дружно отозвались рудокопы.
— Значит, на том и порешим.
…Встреча с женой произошла почти так, как представлял Герасим в тот день, когда вернулся в Уфу со съезда. Он обнял Анюту, провел пальцами по ее пышным волосам, разгладил ее тонкие брови. Потом коснулся губами ее щеки. Тепло ее учащенного дыхания заставляло забыть все, что было с ним плохого и тяжелого в дни разлуки.
Анюта настолько обрадовалась мужу, что в первый момент даже не в силах была шагнуть ему навстречу. Оба подбежали к детской кроватке, Герасим подхватил Галочку, прижал к груди. Девочка не испугалась, не заплакала. Влажными от счастья глазами следя за улыбающейся дочкой, Анюта прошептала:
— Папа приехал, наш папочка…
— Ты сильно изменился, — сказала вдруг Анюта. — С тобой что-нибудь случилось? — Ее поразила бледность мужа.
Но Герасим отмахнулся, будто не расслышал ее слов.
— Не верится, что снова вместе и дома, что ты благополучно вернулась и что у нас все хорошо! — продолжал о своем Мишенев.
Галочка уже уснула на руках отца, и Анюта осторожно взяла дочурку, положила в кроватку.
Они присели на диванчик и, не зажигая лампы, долго рассказывали друг другу, как жили в разлуке, что делали. Были счастливы, что у них все благополучно.
Слышалось ровное и легкое дыхание Галочки, громкое тиканье будильника на комоде.
Герасим прижался к жене.
— Я часто-часто думал о тебе с Галочкой. Уходил на берег Женевского озера, чтобы в тиши поговорить с тобой…
— Верю, — сказала Анюта.
Герасим рассказывал сразу обо всем: о встрече с Лениным и Крупской, об Андрее и Крохмале, о Женевском озере и Альпах, о Брюсселе и Лондоне. Анюта начала говорить о себе, Галочке, о том, как она решилась на поездку в Саратов.
— Навестил меня Валентин Иванович и проговорился, что нужна для работы нелегалка. А я все думала, как же так, вот он, Хаустов, захвачен кружком, Лидия Ивановна озабочена общим делом, ты ради него рискуешь жизнью, а я в стороне, вроде, чужая, не понимаю ничего, сижу дома…
В словах Анюты переплелись и боль, и радость, и осознанная необходимость быть в общем строю. Словом, все. И это «все» радовало Герасима.
— А ведь я понимала, почему Валентин Иванович проговорился: не было надежного человека, чтобы послать за литературой.
Она откинула назад густые, пахнущие свежестью волосы и, счастливая, взглянула прямо в глаза мужу. Тот попытался убедить, что поездка в Саратов в ее положении была не безопасной, сопряжена с ненужным для здоровья риском.
— Да, да! Ну и что? — горячо и убежденно продолжала она. — А твоя дальняя дорога, а общее дело Лидии Ивановны, твое, Валентина Ивановича — разве безопасно? Мне помогали хорошие люди: Егор Васильевич, Антонова, Сонечка. А потом — сама явка к Эмбриону. Пароль, который я называла, выполнение порученного задания…
Анюта припала губами к щетинистой щеке мужа. В этот момент она была счастлива не только от того, что Герасим рядом, но еще и оттого, что к его приезду совершила полезный для общего дела поступок. И снова спросила мужа, одобряет ли он ее поездку в Саратов к Эмбриону?
Герасим одобрил.
— Я рада, так рада была, ты и представить себе не можешь, — прошептала она.
Когда они стали мужем и женой, Анюта считала, что главное для нее — окружить заботой Герасима, делать так, чтобы в их маленьком мирке все шло нормально. Но потом она почувствовала, что одного этого для нее недостаточно, что есть еще жизнь и вне дома. Надо и там не отставать, идти рядом с мужем, быть ему опорой в общем деле, делить с ним опасности, чтобы какая-то доля ложилась и на се плечи.
Эти мысли внушила Анюте Вера Павловна. Героиня Чернышевского желала счастливого будущего людям, она же, Анюта, должна была, как и муж ее, бороться за это счастливое будущее…
Ей казалось, что она высказала вслух свое убеждение, и спросила мужа:
— Ты понял, ты согласен?
Взгляд-ее был настолько выразителен, что Герасим, действительно, понял. Порыв Анюты был так естествен, что угадывался.
— Да! — подтвердил он. — Да!
Полная обожания, Анюта опять прошептала:
— Милый! — обняла мужа и, счастливая, припала к его груди.
В Уфе Герасима Михайловича захватили неотложные дела. Он вставал на рассвете, и день его наполняли комитетские заботы. Действовать приходилось осторожно. Людей, на которых можно было опереться, оставалось все меньше. В городе не прекращались аресты. Верной и надежной помощницей по-прежнему оставалась Лидия Ивановна.
Приближался день суда над златоустовскими рабочими. Собрания проводить было опасно. Город кишел агентами полиции. Комитетчики решили выпустить прокламации, рассказать, что полгода безвинные люди сидят в тюрьме. Важно было показать нелепость и лживость обвинения в адрес рабочих. Герасим помнил разговор с Надеждой Константиновной, ее просьбу написать в «Искру» о том, как царское самодержавие чудовищно расправилось с рабочими, прикрыв и оправдав законами свое кровавое преступление.
Заранее можно было сказать, чем кончится суд: невинных товарищей, выхваченных из толпы, сошлют на каторгу. Герасим знал, как происходили мартовские события. Он находился под впечатлением и недавнего разговора с Инной Кадомцевой.