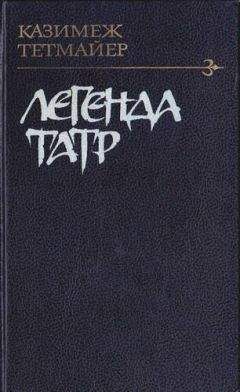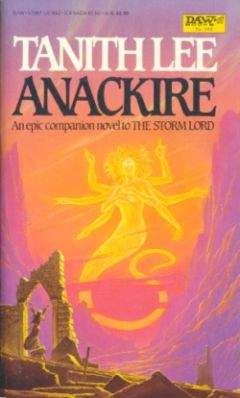С одного волокна начинают в лесу портиться бук и ель, а потом дерево все прогниет, искрошится и рухнет. Так и у медведя: загнивает один только зуб, и, как ни велик и силен медведь, конец его уже начался. Но это делает время, — а он, Собек, в своем доме, в доме отцов своих, сам начнет разрушение?!
И Собек отнял от потолка приставленный уже бурав.
Но тут заговорила страсть. Он увидит, как панна ложится, увидит, как она будет вставать, умываться и менять белье, увидит…
Он приставил бурав к дереву. Казалось ему, что дом вздрогнул.
И снова он отнял сталь.
Священный ужас охватил его. Он оглянулся. Ему казалось, что за спиной стоят тени, что страшные руки протягивают к нему великаны-предки: Валилес, выкорчевавший землю для Грубого, и Ломискала.
Но никого не было.
Он снова приставил бурав, — надавил, повернул…
И стал вертеть изо всех сил, с ожесточением, обливаясь потом, дрожа от озноба.
Вертел… Со страстью, в каком-то безумии, с силою десяти человек вертел дыру, пока не провертел ее. Он вытащил сталь, сдул опилки — и увидел дневной свет и постель Беаты Гербурт. Тотчас же сбежал вниз, чтобы подмести пол, — и с тех пор дни и ночи проводил на чердаке. Потому что приходилось взбираться наверх и ложиться на пол так, чтобы никто не слышал, и спускаться точно так же незаметно. Не раз случалось ему пролежать на чердаке с полудня до следующего утра.
Родные стали совещаться.
Марина пропала. Собек весь высох, бродит как тень, хозяйство забросил, еле волочит ноги; если так будет продолжаться, он при всем своем богатстве пойдет с сумой. Он словно зачарован, как птица, под взглядом змеи… Все богатство Топоров прахом пойдет!
А тут еще недалеко, по соседству, здоровый мужчина, пришедший из лагеря под Берестечком, слег и умер. В деревне той начал распространяться тиф. Откуда бы, ежели мужик пришел домой еще совсем здоровым?..
Бабы стали шептаться, мужики совещались. Мужики толковали о том, что Собек опустился, не ищет Марины, не думает о мести за смерть деда; бабы шушукались о другом. Жена Железного Топора сказала жене Топора Лесного:
— Кажись, сглазили семейство Ясицы.
— Ей-богу, и я так думаю…
— Марина пропала — и следу нет…
— Да. Точно ее унес кто-то.
— Я думала — не русалки ли, да нет их нигде, и не слыхать о них.
— Тоже и не Монах: люди его здесь давно не видали. И не волки — чай, не зима.
— Ну, так куда ж она пропала?
— Кто знает?
— И с лошадью вместе. Сквозь землю не провалилась, на небо не взлетела. Не иначе как ее выгнало что-то из дому невесть куда: в лес или в горы. Бог знает, жива ли она еще?
— Так, так… Неведомо, что с ней сталось…
— Сглазили ее. Больше нечему быть.
— А Собек-то? Тень тенью. Да и мало его на людях видать. Все дома сидит целые дни.
— Да. Я тоже в нем перемену заметила.
— Да и я. А с каких пор?
— Недавно. Сейчас же почти, как с овцами с гор сошли.
— Так, так… Теперь уж дело ясное: сглазили их.
— Сглазили.
— И люди кругом болеют. Трое померло.
— Да.
— А почему? Из-за чего? Да тут никакой болезни не бывало! Откуда бы она взялась? Кабы Войтек Бустрицкий, который с войны вернулся, больным пришел, а то ведь ничего с ним не было!
— Здесь захворал.
— Ну да, здесь. Ни с того ни с сего. Сглазил кто-то Грубое.
— Сглазили, верно. Но кто?
— А кто здоровый ходит тут, да красивый, да как сыр в масле катается. И откуда взялся?
— Ты о ком это?
— Жрет, пьет, как тот колдун, что за речкой у Собанка жил и всех донимал, да еще потом деревню затопить хотел.
— Но у нас здесь колдуна никакого нет, ни к кому из хозяев не приходил.
— Это-то я знаю. А что Галайда нашел? У озера-то?
— Эге! Панну эту?
— Он мне сам рассказывал, а я ему сколько раз говорила: кто знает, хорошо ли ты сделал, что ее принес?
— Может быть, и правда. Гм…
— Сами посудите: все кругом к земле клонится, а она на глазах расцветает!
— Да, да, это вы правду говорите.
— Я ни на кого клепать не стану. Да ведь это в глаза бросается.
— Да, да, верно, просто глаза режет.
— Топора старого убили, жена его колодой лежит, Марина пропала, Собек одурел, — а ей хорошо.
— Так, так!
— Я пустяков болтать не люблю, но как тут не задуматься: кого это Галайда в шалаш принес?
— Вот, вот, кто знает?
— Может, нечисть какая, дьявольское наваждение…
Бабы с минуту молчали под впечатлением услышанного.
— Ну, так что же делать? — сказала Лесная.
— Что делать? А что сделали с колдуньей за Белой рекой?
— С Беджаной? Которую сожгли?
— Да!
Опять молчали, чувствуя, что высказали что-то страшное, словно раскаленный камень бросили в чью-то голову.
— Когда стало у коров молоко пропадать? Когда стал умирать дети? Как раз тогда, когда она откуда-то пришла.
— Пришла она, кажись, из города.
— Толкуй там! Кто знает, откуда?
— Может, и с Лысой горы?
— Я это от людей слыхала. В Испании сами ксендзы велели еретиков и разных колдунов жечь. И считалось это святым делом!
— Да и немцы Гуса какого-то сожгли.
— Ну да, который детей еще в животе материнском портил, так что они мертвые рождались.
— Да, да, и я это в Шафлярах слышала: ксендз говорил с амвона богомольцам.
— Спаси, господи!
— Надо людей спасать…
— Да и род наш: Собек ведь — Топор.
— Может, тогда и Марина найдется. Почем знать?
— А что, ежели мы ее начнем бить? До тех пор, пока Марину не вернет либо скажет, где она. А если уж померла Марина, так узнаем хоть, где ее тело.
— Пойдем к мужикам.
Пошли. Мужики выслушали их внимательно. Были это мудрые и в делах человеческих опытные старики, и говорить им разные пустяки было не к чему. Они позвали самого старшего Топора, Мурского, и его жену.
На сожжение они не соглашались: не видели на то причины. Но поверили, что Марину Беата выжила из дому какими-то чарами для того, чтобы можно было больше есть, и что Собека она же испортила, чтобы он умер и она могла бы присвоить себе все хозяйство. Такие дела уж не раз случались. Наскучит какому-нибудь черту сидеть в пекле, и вздумает он зажить на земле своим домком. Ну, и купит у мужика землю или выслужит чем-нибудь — где мужику с чертом тягаться? А иной раз черт его либо застращает, либо разными хитростями доведет до разорения, а хозяйство возьмет себе. Иной раз и обманом выманит. И женились такие черти, что жили в деревне. После одного нечистого духа остались под Черным Дунайцем его дети, Духи. Да и Покусы[23], большой род, расселившийся от Людзимежа до самых Полян, тоже от нечистого пошли. Кто знает, может быть, эта панна подослана дьяволом, и может, она его любовница?
— Да ведь никто не видел, чтобы кто-нибудь к ней ходил…
— Во-первых, они на время могли расстаться, а во-вторых, — дьяволу ни дверей искать не надо, ни в окошко стучаться. Он во всякую щель пролезет, в замочную скважину или под дверью и людей усыпит.
— Еще бы! На то он и дьявол.
Старый Топор из Мура долго молчал. Наконец он заговорил:
— В чем тут дело, я не знаю, а что она хочет Собеково да Маринино добро к рукам прибрать — это может быть. Слышал я от старых людей про карлу, который нанялся к мужику в работники, и мужик при нем до такой нужды дошел, что хотел повеситься. Не знали, чем ему помочь. Наконец нашелся умный человек и посоветовал карлу выгнать. Ну, собралась вся округа и выгнала карлу вон, за границу. А мужик опять разбогател, как прежде. Было это где-то на Ораве.
— Вот, вот видите? — затараторила Железная.
— Так и тут будет, — подхватила Лесная.
А Собек между тем ходил как помешанный. Посягнуть на Беату он не решался, не научился даже свободно говорить с ней, да и не пробовал.
Сколько раз подходил он ночью к ее двери — и всякий раз отступал, не смея открыть ее. Он так одичал, что рад был исчезновению Марины: при ней нельзя было бы лежать на чердаке, над просверленной в полу дырой, или по ночам подслушивать в сенях у дверей Беаты. А он прислушивался к каждому ее движению, к каждому вздоху, к дыханию.
Когда она ворочалась на постели, его пронизывала горячая дрожь, словно он выпил расплавленного железа. Иногда ему приходила мысль вырыть из-под явора позади дома медный котелок с дукатами и высыпать золото к ногам панны, но тотчас же он смеялся над этой мыслью: и не столько золота видела она в отцовском замке. Может быть, в детстве давали ей больше золота, чтобы она им забавлялась!
Не раз Собек в конюшне бился головой о стену, а иногда, ошалев от муки, дергал лошадей за уздечки, пинал их ногами, без всякой причины бил кулаком по мордам, так что они уже дрожали, как только он входил в конюшню. А раньше они дружелюбно поворачивали к нему головы. Работник удивлялся, но когда однажды вздумал что-то сказать, Собек захватил в кулак его рубаху у самого горла, рванул его к себе и взглянул на парня такими глазами, что тот решил молчать, даже если Собек станет живьем драть с лошади шкуру.