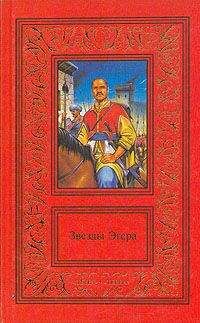2
На южной окраине Константинополя возвышается старинный замок-твердыня. Он был выстроен еще греками. В этом месте стояли когда-то Южные ворота знаменитой византийской крепостной стены, чудесные беломраморные Золотые ворота, воздвигнутые в честь императора Феодосия[32] и украшенные мастерами по резьбе и росписи. Белые камни ворот сохранились и поныне. Высока ограда замка, а внутри нее, точно семь ветряных мельниц, семь приземистых башен.
С востока замок омывает Мраморное море, а с других сторон его окружают деревянные дома.
Это знаменитый Еди-кула, иначе говоря — Семибашенный замок.
Все семь башен битком набиты сокровищами султана, которые уже не помещаются во дворце.
В двух средних башнях — драгоценности: золото и жемчуг. В башнях, выходящих на море, — осадные машины, ручное оружие и серебро. В остальных двух — старинное оружие, древние грамоты и книги.
Здесь содержатся и высокопоставленные узники — все по-разному. Иные закованы в цепи, сидят в темницах. Другие живут свободно и в такой неге, будто они дома; они могут гулять в саду крепости, в огороде, на балконах башен и мыться в бане, могут держать слугу — и даже трех слуг, писать письма, принимать посетителей, развлекаться музыкой, есть, пить. Только выходить за ограду замка они не вольны.
Два седовласых человека сидели на скамье в саду Семибашенного замка, греясь на весеннем солнышке. У обоих на ногах были легкие стальные цепи, служившие больше для того, чтобы узники не забывали о своем положении.
Один оперся локтями о колени, другой откинулся на спинку скамейки и, положив руку на локотник, глядел на облака.
Человек, смотревший на облака, был старше своего соседа. На голове у него была белая грива волос, борода свисала по самую грудь.
Оба были в венгерской одежде. Много одежды поизносили венгерские узники в Семибашенном замке!
Старики сидели молча.
Лучи весеннего солнца маревом окутали сад. Среди кедров, туй и лавров цвели тюльпаны и пионы. Огромные листья старой смоковницы впивали в себя солнечные лучи.
Узник, следивший за полетом облаков, скрестил на груди сильные руки и, посмотрев на товарища, спросил:
— О чем ты задумался, друг Майлад?
— Вспомнилось ореховое дерево в моем саду, — ответил Майлад. — В Фогараше у меня под окном стоит старое ореховое дерево…
Оба замолчали, и снова заговорил Майлад:
— Одна ветка, та, что подальше от окна, замерзла. Пустило ли дерево новый росток? Вот о чем я думаю.
— Наверно, пустило. Когда дерево замерзает, от корня отходят новые ростки. И виноградная лоза пускает ростки. А вот человек, тот нет…
Снова наступило молчание. И опять разговор завел Майлад:
— А ты о чем думаешь, Балинт?
— О том, что капы-ага[33] — такая же дрянь, как и все остальные.
— Это верно.
— «Я такой хитрый, эдакий хитрый»… Вот моя жена и прислала ему тридцать тысяч золотых, чтобы он «хитростью» своей снял с меня эти цепи. Уже три месяца прошло с тех пор…
Опять помолчали. Майлад потянулся за желтевшим в траве цветком. Сорвал его. Растеребил в руке и рассыпал лепестки по земле.
— Ночью, Балинт, я думал о том, что ведь так до сих пор и не знаю, за что ты здесь сидишь. Ты рассказывал не раз, как тебя везли по Дунаю, как ты хлопнул о борт корабля одного стражника, как тебя сюда привели. Но начало, настоящую причину…
— Я же сказал тебе, что сам не знаю.
— Жил ты в своем гнезде. Не могли же заподозрить, что ты мечтаешь стать королем или властителем! И с турками ты дружил. Сам призвал их на помощь против Фердинанда.
— Не только я…
— Но из них ты здесь один. Знаю, что не для этого ты позвал турок…
— Я и сам часто ломал голову над этим. Самому хотелось бы узнать, за что я попал сюда.
По двору под барабанный бой прошел отряд капыджи, и узники снова остались одни.
Балинт передернул плечами.
— И все-таки я думаю, что причина в той ночной беседе. Султан спросил меня, зачем я сообщил немцам о его приходе. Спросил с досадой. «Немцам? — с удивлением задал я вопрос. — Я сообщил не немцам, а Перени»[34]. — «Это все едино, один черт! — ответил султан. — Перени ведь стоял за немцев. — И султан с бешенством выпучил на меня глаза. — Если б ты не сообщил им, — сказал он, — мы застигли бы здесь немецкие войска врасплох. Схватили бы всех вельмож и сломили бы силу Фердинанда! Вена тоже была бы моей!» Когда этот мерзкий турок рявкнул на меня, во мне кровь вскипела. Я ведь, знаешь, всю жизнь был сам себе хозяином и думы свои не привык таить.
— И ты встал на дыбы?
— Я не был груб. Только признался, что сообщил немцам о прибытии султана, желая спасти тех венгров, которые были в немецком стане.
— О-о! Напрасно ты так сказал, это большая ошибка!
— Да ведь я тогда еще был на воле.
— А что он ответил?
— Ничего. Ходил взад и вперед — думал. Вдруг повернулся к своему паше и приказал отвести мне хороший шатер, чтобы я переночевал в нем, а утром-де мы продолжим разговор.
— О чем же вы беседовали на следующий день?
— Ни о чем. С тех пор я не видел его. Меня поместили в большущем шатре, но больше не выпустили из него. Каждый раз, как я пытался выйти, мне приставляли к груди десять пик.
— Когда же на тебя надели оковы?
— Когда султан отправился домой.
— А мне надели на ноги кандалы сразу же, как схватили. Я плакал от ярости, как дитя.
— А я не могу плакать, у меня нет слез. Я не плакал даже, когда родной отец умер.
— И о детях своих не плачешь?
Балинт Терек побледнел.
— Нет. Но всякий раз, как вспомню о них, будто ножами меня режут. — И, вздохнув, он склонил голову на руку. — Мне частенько вспоминается один раб, — продолжал Терек, покачивая головой, — худой, злющий турок, которого я захватил на берегу Дуная. Продержал я его у себя в крепости много лет. И однажды он прямо в глаза проклял меня.
Вдали заиграли трубы. Узники прислушались, потом снова погрузились в свои мысли.
Когда солнце зарумянило облака, по саду прошел комендант крепости и, подойдя к ним, небрежно бросил:
— Господа, ворота закрываются!
Ворота запирались обычно за полчаса до заката солнца, и к этому времени узникам полагалось быть у себя в комнатах.
— Капыджи-эфенди, — спросил Балинт Терек, — по какому случаю сегодня музыка играет?
— Сегодня праздник тюльпанов, — свысока ответил комендант. — Нынче ночью в серале не спят.
И он прошел дальше.
Узникам было уже известно, что это значит. И прошлой весной был такой же праздник. Все жены султана резвились в саду сераля.
В этот день султан устанавливает между цветниками ларьки и палатки «со всякими товарами. Роль продавщиц исполняют затворницы гарема низшего ранга и продают разные безделушки — бусы, шелковые ткани, перчатки, чулки, туфли, вуали и прочую мелочь.
Женам султана — а их несколько сотен — никогда не разрешается ходить на базар, так пусть они хоть раз в году насладятся тратой денег.
В саду в этот день стоит веселый гомон. На деревьях и кустарниках развешаны клетки с попугаями, скворцами, соловьями, канарейками. Их приносят из дворца. И птицы поют, состязаясь с музыкой.
Вечером в Босфоре на одном из кораблей зажигаются ароматические факелы, пестрые бумажные фонарики, и весь гарем под музыку совершает прогулку на этом корабле до самого Мраморного моря.
У подножия Кровавой башни узники пожали друг другу руки.
— Приятных снов, Иштван!
— Приятных снов, Балинт!
Ведь тут, кроме сновидений, другой радости и нет. Во сне узник всегда дома. Он занимается своими делами, словно это и есть день, а неволя — только сон.
Но Балинту Тереку вовсе не хотелось спать. Против обыкновения, он прилег после обеда и задремал, так что вечером его не клонило ко сну. Он распахнул окно. Сел к нему и смотрел на звездное небо.
По Мраморному морю мимо замка Еди-кулы проплывал корабль. Небо было звездное и безлунное. Сверкающая россыпь звезд отражалась в зеркальной глади моря — казалось, и море стало небом. Корабль, освещенный фонариками, плыл между звездами, трепетавшими в небе и в море.
Каменная стена заслоняла от узника плывущий корабль, но музыка доносилась к нему. Звенела турецкая цимбала, и щелкала чинча. В тоске заточения Балинт Терек слушал бы их охотно, но мысли его унеслись далеко.
К полуночи шумная музыка утихла. Запели женщины. Сменялись их голоса — сменялся и аккомпанемент.
Балинт Терек слушал рассеянно. Он смотрел, как небо медленно заволакивают рваные облака-скитальцы. Сквозь темные их лохмотья кое-где проглядывали звезды.
«И небо здесь совсем иное, — подумал узник, — турецкое небо, турецкие облака…»
На корабле наступило долгое молчание, и мысли Балинта сплетались одна с другой.
«И тишина здесь иная: турецкая тишина…»