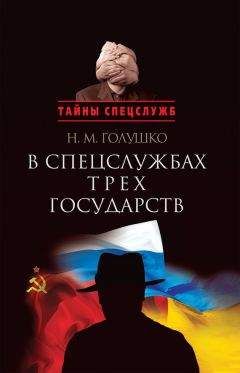месиво и, понимал, что ни черта не понял об этой девочке. По позвоночнику
ознобом дрожь прошла: как он мог в ней сомневаться? "Прости", — попросил
мысленно и пошатнулся — сердце сдавило от боли. Там, за ее гранью его уже ничего
не беспокоило.
— Кажется, сдох, — заметил эсэсовец, пощупав пульс на сонной у упавшего вдруг
подпольщика. — Черт!!
Кто бы знал, что у него слабое сердце!
Штурмбанфюрер будет очень зол на ефрейтора. Но есть еще шанс чего-то добиться, —
покосился на потерявшую сознания Лену.
— Снимите наручники и приведите ее в себя. Продолжим.
Сколько это длилось, она не знала. Ей резали руки на запястьях, сыпали в раны
соль, пробивали ножом ладони. Вновь прижигали звезды, видно решив прожечь ее
тело насквозь, сыпали соль и на них. Били, орали, хлестали плетками. Она теряла
сознание, ее приводили в себя. Весь пол был залит кровью, разбавленной водой.
Ефрейтор был вне себя и изгалялся, как мог: сдирал висящие после порки лоскуты
кожи со спины, скрутил прямо через раны на запястьях руки колючей проволокой,
пинал, орал… и, наконец, устал.
Лена лежала в воде и крови и смотрела, как мимо прошли чьи-то ноги в начищенных
сапогах. Она ничего не соображала от боли, казалось тело вопило, содрогаясь в
собственной крови и вдруг как в тумане услышала знакомый голос. Повернула голову,
пытаясь сфокусировать взгляд, но образ офицера с брезгливой миной
рассматривающего ее, плыл, то мутнел, то проявлялся. Она не понимала одного —
почему еще жива…
Игорь смотрел на нее и еле держал себя в руках, играя отведенную роль. Он готов
был увидеть в руках Штеймера кого угодно, только не Лену. Этот сюрприз был не
просто неожиданным, этот сюрприз был ударом в сердце.
— Эту вы взяли? Что сказала? — покачивая носком сапога, спросил ефрейтора,
изображая спокойствие и брезгливость по отношению к валяющейся в собственно
крови девушке.
А в голове билось: "Почему она не ушла? Почему?!" Ведь тогда, в деревне, дал
понять — сиди тихо, не лезь! Забейся куда-нибудь в угол и сиди. Сиди!
Кому нужно геройство детей? Ведь цена ему — смерть. А что может убить сразу
двоих. Троих? Не пуля — смерть ребенка…
Но кто виноват? Он!
Он всегда знал, что игры секретных служб не для детей и как не хотел вмешивать
свою семью! Но надо было отправить Лену в Брест, но больше некому было незаметно
передать сигнал Банге — все спокойно, можно возвращаться…
Тот вернулся, а Лена…
Слишком высокая цена, слишком огромная.
— Ничего. Штурмбанфюрер с меня голову снимет.
— Не думаю, — улыбнулся загадочно. — Что она вообще могла знать?
— Эээ, — протянул Штеймер, пытаясь уловить мысль обер- лейтенанта.
— Не ту взяли, только и всего. Эта чучело и не могло ничего знать. Какой идиот
может использовать это для связи? Посмотри на нее. Курица.
— Я тоже так подумал, — закивал. — Если ее убрать…
— А вот это глупо. Тогда тебе не избежать гнева начальства. Штурмбанфюрер будет
думать, что ты переусердствовал и прикрываешь свои промахи. Но если у тебя будет
живое доказательство твоих слов — совсем другое дело. Отправь ее в камеру и
пусть подыхает. Как понадобится, ты сможешь предоставить штурмбанфюреру своей
работы и преданности делу фюрера. Да, — махнул рукой в перчатке. — Через три
дня уходит машина в Барановичи с особо опасными преступниками. Сбудь с рук и эту.
Что с ней случиться дальше — не твоя вина. Она была жива, когда ее отправляли, —
улыбнулся.
Мудро, — кивнул Штеймер.
— Но к делу. Большевистские бандиты сорвали нам план поставки рабочей силы. Мне
нужны все, кто не проходит по делам и достаточно крепок. Чем сидеть здесь и есть
наш хлеб, пусть поработают на великий рейх и во славу фюрера.
Штеймер понял, что ему предлагают сделку и довольно выгодную. Он согласился.
Лену оттащили в камеру, но она этого не знала.
В тот же вечер Игорь связался со своим человеком, и уже утром по цепочке в отряд
было передано, что во чтобы то не стало нужно взять крытую машину, что пойдет в
Барановичи, в гестапо. Вопросов это задание не вызвало. Попавших к палачам
спасти было делом святым, какой бы конвой их не сопровождал.
Сознание плавало. Было больно даже дышать. Хотелось пить и тошнило так, что
скрючивало, но каждое движение вызывало помутнение в глазах.
Кто-то попытался ее напоить. Она жадно глотнула и закашлялась, свернулась на
полу. Вода вышла пополам с кровью. Больше ее не трогали и она была безумно
благодарна за это.
Странная штука память. На краю сознания она выдает то, что порой, в нормально
состоянии ты и не вспомнишь, как не силься. Ей вспомнился запах гимнастерки
Николая, его объятья ласковые и крепкие, так ярко, словно это случилось вновь,
сейчас. Лена уткнулась носом в пол, как в его плечо:
— Прости, — прошептала.
Так странно — почему на грани между жизнью и смертью жалко всегда того, что
случилось, а не того, чего уже не будет? Ей было жаль, что она всего лишь
коснулась Николая, жаль, что была глупой и наивной, ругала Надю за кокетство.
Какое все это имело значение?
А ведь тогда казалось очень важным.
Ей виделась Пелагея и дед Матвей, и снова Коля, бреющий щеку, тот его взгляд,
когда она принесла завтрак солдатам. Она как на яву слышала его голос и плакала
с сухими глазами оттого, что по глупой пустой гордости, непонятно почему не
сказала ему самого главного, того что поняла и признала лишь после того, как его
не стало:
— Я тебя люблю…
Не думала она, что скажет это образу, а не живому человеку.
Не думала, что услышит ее лишь пол камеры.
Не думала, что умрет, не узнав вкуса поцелуя, не узнав как это, стать матерью и
качать ребенка на руках.
Ее будущее было ей ясно и понятно, спланировано, но сейчас ей казалось, сюжет
будущей жизни писала не она, какая другая, чужая, глупая девчонка.
Кто-то осторожно коснулся ее плеча и, Лена зажмурилась, сдерживая стон: не
трогайте, пожалуйста, не трогайте меня! Но ее не услышали, что-то мокрое
коснулось лица, начало оттирать запекшуюся кровь, доставляя боль. Лена не
сдержалась, застонала и возненавидела себя за слабость, никчемность, за эту
нетерпимость к боли.
Что-то холодное, мокрое легло на спину и превратилось в раскаленное железо.
— Ааааа! — вырвалось само. Лена стиснула зубы до хруста, но сквозь них
прорывался стон, мычание на одной ноте.
"Молчи, молчи, тряпка!" — приказала себе. Глаза закрылись, дыхание стало
прерывистым.
Она теряла сознание и приходила в себя, но так и не могла вспомнить ни кто она,
ни где находится. Не понимала, что лежит в одной юбке на грязном, холодном полу
камеры, битком набитой такими же искалеченными пытками и заточением людьми. Не
понимала, отчего так нестерпимо больно, почему то холодно, то жарко, почему
горит в грудине почти у горла и под «ложечкой». Почему горят руки и словно
острия спиваются в кости, не то, что в мышцы.
Ее сознание отсеивало ненужное, а забытье дарило покой.
Скрип открывшейся двери камеры прозвучал как обвал стены на голову.
Лену схватили, заставили встать на ноги, но она не могла, обвисала. И стыдилась,
что не может, и ненавидела себя за слабость.
Ее дотащили до крытой машины, кинули внутрь, и тут же множество рук приняли ее,
поставили на ноги. Чье-то тело стиснуло, вжали в другое тело, заставляя стоять.
Она видела лицо мужчины, его перевязанную грязной тряпкой голову, щетину на щеке
и взгляд темных, пустых глаз.
— Держись, — прошептали его губы.
Она заставила себя улыбнуться в ответ.
В машину запихивали следующих, набивая ее до отказа. Лязгнула железная решетка,
хлопнула дверь. Истерзанных людей качнуло — машина поползла через город,
переваливаясь на рытвинах.
Людей заносило, слышались стоны. Было душно и тошно.
Лена не чувствуя того, фактически висела на руках мужчины, уткнувшись ему в шею
лбом. И все пыталась понять, почему так горячо, так безумно горячо и душно.