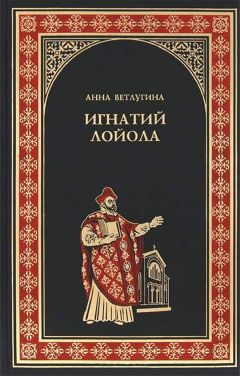— Иди работай! — неприязненно подхватил какой-то ремесленник, проходивший мимо, и даже сделал движение в сторону Иниго, будто собираясь пнуть.
— А вы не ошиблись? — громко, с интересом спросил Лойола. — Вы точно знаете, кому положена милостыня, а кому нет? Ведь очень легко ошибиться.
— Чего тут ошибаться, всё ясно, — проворчал ремесленник, но клирики решили продолжить беседу.
Один с ехидцей поинтересовался:
— То есть, ты считаешь, тебе положено попрошайничать? Может, ты сам святой Франциск? Докажи это, и я брошу что-нибудь в твою чашку.
Любопытные прихожане останавливались послушать спор, высказывали мнения, нелестные для Иниго.
— Бог докажет, — ответил он, вставая. Забрал чашку, снял плащ, повесил его на руку и двинулся прочь. Все увидели его изуродованную правую ногу, намного короче левой, и замолчали, пристыженные.
Из толпы выступил человек в серой одежде и бросился вслед уходящему:
— Постой! Я — управляющий странноприимным домом Богородицы Милосердной. Приглашаю тебя жить у нас.
...И вновь всё время, остающееся после учёбы, Лойола тратил на «вразумление душ», проповедуя на улицах и площадях. И здесь, как в Барселоне, за ним ходили толпы самого различного люда. Экзальтированные дамы исправно падали в обморок от его красочных рассказов. Одна сеньора даже собралась публично самобичеваться, но почему-то не смогла поднять руку. Появилось у него и несколько верных товарищей, всюду ходивших за ним и готовых выполнить любое его поручение.
Нехватки в подаянии он больше не испытывал и мог снова помогать другим нищим, по своему обычаю. Особенно много средств давал известный в городе печатник и богач дон Мигель де Эгиа. Семья печатника полюбила Лойолу, его часто звали обедать, с ним советовались, как с духовником.
Однажды они осматривали печатные станки, и дон Мигель сказал ему:
— Дорогой друг, было бы лучше для тебя проповедовать под крышей, для специально приглашённых, а не на улицах. Слухи о тебе дошли до Толедо, тобою заинтересовалась инквизиция.
— Инквизиторы? — удивился Лойола. — Зачем я им?
— Видишь ли, — объяснил печатник, — даже один проповедник, не имеющий сана, вызывает подозрение. А у тебя целых четверо помощников. Инквизиторы считают вас «дерюжниками» или того хуже — «озарёнными». И те и другие запрещены. Недавно в Толедо как раз отлучали от церкви «озарённых». Попомни мои слова, инквизиция устроит вам резню!
— «Дерюжники», «озарённые»... — Иниго пожал плечами. — А кто это такие? Кажется, сектанты?
— Они самые, — отвечал Мигель, — и вы, если не вдаваться в подробности, очень похожи на них.
Лойола усмехнулся.
— Ну какие из нас еретики? Мы веруем в Христа, признаем таинства.
Печатник даже руками развёл.
— Я удивляюсь, как ты с твоим умом и прозорливостью ухитряешься проповедовать, абсолютно не представляя себе, чем сейчас живёт церковь. Ты хоть знаешь, что творится в Германии?
— Нет, — честно признался Лойола. — Расскажи.
— У них война. Настоящая война из-за веры. И все они вроде бы признают Христа, но по-разному.
— Совесть у них не приживается! — пробормотал Иниго. — А поподробнее, Мигель?
В этот момент в залу со станками торопливо вошёл брат Мигеля, дон Диего, также покровительствующий Лойоле.
— Вы здесь. Хорошо, — он перевёл дух, — я всюду искал нашего проповедника, хочу предупредить: завтра приедут инквизиторы. Будут расследовать, что за общество организовывает уличные проповеди, не согласуя их с церковью.
— Я говорил тебе, Иниго! — горестно воскликнул Мигель. — Может, вас спрятать?
— Зачем же? — возразил Лойола. — Будем уповать на Бога. Если мы правы — Он защитит нас. А пока... Мигель, расскажи всё-таки: что там случилось в Германии?
— Проповедники, пожалуй, самое большое зло, какое можно себе представить в нашем деле, — сказал Людвиг, разглядывая собственноручно нарисованные листки.
Он, как выяснилось, тоже рисовал неплохо. Правда, до Альмы ему всё же было далеко.
— Они льют яд в умы своими проповедями, — продолжал он. — Мы работаем месяцами, объясняя людям такое понятие, как «свобода». Они же могут свести на нет весь наш труд одним выступлением. Выразятся покрасивее и — народ пускает слезу. Особенно бабы.
— То, чем мы занимаемся, тоже можно назвать проповедничеством, — возразил Альбрехт. Людвиг раздражённо отшвырнул листок:
— Фром-бер-гер! Мы не проповедуем, а ведём разъяснительную работу! Понимаешь разницу?
— Понимаю, — буркнул Альбрехт. Спорить не хотелось. Разницы особой он, если честно, не видел. Он вообще стал брюзгливым и раздражительным.
Прошёл уже год, как их выгнали из замка курфюрста, а он всё не мог забыть Альму и не знал, как найти её. Мало того, что его бы теперь не пустили в замок, у него не получалось даже попасть в окрестности Айзенаха.
Мюнцер гонял своих помощников, как ветер облака.
Вчера они «разъясняли» важные мысли крестьянам в Южном Шварвальде, дабы те не организовывали «неправильных» мелких восстаний, а копили силы на большую войну. Сегодня — обращались к лейпцигским беднякам. А завтра собирались подкладывать специальные выпуски листков веймарским зажиточным бюргерам.
Это не означало постоянных поездок, ведь собственных лошадей студиозусы, разумеется, не имели. Они могли передвигаться только с обозами — медленно и не прямо к цели. Порой так и происходило, но чаще они просто передавали сделанные листки нарочному и возвращались в печатню работать.
Сам Мюнцер часто разъезжал, ведя «разъяснительную работу». Его речи отличались прямо-таки зверской ненавистью к церкви. Храмы он называл не иначе, как «капища». Альбрехт был уверен: жену свою — бывшую монахиню Оттилию — «Новый Гедеон» взял в жёны не из любви, а из желания досадить проклятому духовенству.
При таких речах ему до сих пор удавалось оставаться на свободе, из чего студиозусы сделали радостный вывод: инквизиция в Германии работает из рук вон плохо. Всем управляли многочисленные князья. Каждый из них творил законы в своих владениях, не оглядываясь на соседей. Намозолив глаза одному князю, Мюнцер переезжал в другой город и там начинал всё сначала.
Съездив в Чехию, он снискал там лавры «второго Яна Гуса», после чего был немедленно выслан. Потом поселился в Альтштадте, официально заняв место проповедника, и снова принялся за «разъяснения». Ему удалось договориться с местной типографией. Теперь поэтические воззвания Альбрехта печатали с помощью наборных литер.
Глядя на отпечатанный текст, студиозус испытывал прилив гордости, будто создавал целый эпос.
— А мы, презренные крестьяне, опять по старинке, — кривился Людвиг, врисовывая свои художества в пустоты, специально оставленные в каждом экземпляре.
В один из мартовских дней 1524 года, в Маллербахе, неподалёку от Альтштадта, Мюнцер говорил на городской площади о «поганых капищах». Из-за весеннего настроения получилось у него особенно вдохновенно. Разъярившаяся толпа, еле дослушав, бросилась к ближайшему храму. Альбрехт не успел даже ничего сообразить, как часовня уже горела. Выбежала плачущая монахиня.
— Что творите, братья! — рыдала она. — Там статуя Богоматери! Она город наш спасала!
Ответом ей был только смех.
— Замолчи, папская собачонка! — кричали из толпы. — Спасает Бог, а не ваши картинки! Пойди, залей святой водой, если она у вас такая чудодейственная!
Прибежали ещё две монахини. Втроём они приволокли со двора чан с водой и безуспешно пытались потушить пожар.
Толпа зашумела и заулюлюкала с новой силой.
— Протухла, видать, ваша святая водичка-то? Не действует!
Монахини метались в бессильном отчаянии. Одна из них, самая старая, плюнула в толпу.
— Накажет вас Бог, нехристи! Замолите о пощаде, да поздно будет!
— Смотрите, собачонка ещё кусаться вздумала! — крикнул какой-то школяр. — Держи её!
Он пронзительно свистнул. Трое зарвавшихся юнцов бросились на старуху и, задрав длинный чёрный хабитус, показали толпе старухины чулки — серые, убогие, залатанные тут и там.
— Отпустите немедленно! Не стыдно приставать к бабушкам? — крикнул Альбрехт. Школяры рванулись к нему с явным намерением подраться, но, оценив телосложение студиозуса, сникли и оставили монахиню.
— Habitus non facit monachum! (Хабитус не делает монаха!), — всё же не преминул сказать один из них. В толпе снова засмеялись. Школяр гордо приосанился, только Альбрехт не дал ему разгуляться.
— Иди учить уроки, умник! — и, взяв юнца за плечи, дал показательного пинка.
Часовня с чудотворной статуей пылала. Больше никто не пытался её тушить.
Смотрели молча, будто заворожённые. Пожилая монахиня, обиженная школярами, стояла рядом с Альбрехтом и порывалась что-то сказать ему.