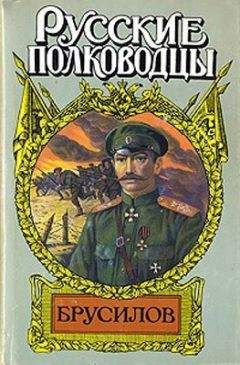Он резко повернул Суворову спину, пошел назад.
«Впрочем, я не против того, чтобы Брусилов в одиночку поцапался с немцами, — думал Резанцев. — Если он вырвет клок шерсти у немца — не беда. «Общественность» возликует, члены блока ударят в литавры и раструбят на весь мир, что благодаря их рвению пришла победа, а на поверку — никакой победы! Один конфуз. И все поймут — воевать мы не умеем и не можем. И нужно мириться. И никакие Брусиловы больше нам не помогут.
Завтра состоится совещание. А оно у меня перед глазами. Участники его — как на ладошке. Иванов будет обиженно помалкивать, свою агитацию он развел еще сегодня. Эверт превознесет таланты Алексеева, но, соглашаясь, вывалит тысячи доводов против…
Со своими «с одной стороны» глубокомысленно-нудно напустит туману Куропаткин. Царь будет зевать от скуки. Алексеев — бессильно и молча злиться. Зубами вгрызется в свое наступление Брусилов. Он потребует совместных действий на всех фронтах. Он носится с этой идеей. Он предложит себя в застрельщики. Эверт и Куропаткин должны согласиться! Пусть начинает. Это как в детской игре: раз, два, три! Один побежал, а другие стоят и смеются: «Обманули дурака на четыре кулака». Все, что мне нужно, — это знать точный день наступления».
Последние два дня Михаил Васильевич Алексеев никого не принимал с текущими делами. Он готовился к совещанию. Он много трудился, истово молился и тяжело думал. Он почти физически ощущал на лбу и плечах гнет нависающих событий. Трудясь над запиской «по поводу выполнения операций на Юго-Западном фронте в декабре 1915 года и Северном и Западном в марте нынешнего года», он сызнова пережил позор тех дней. Он хотел этой запиской, которую должны были раздать к совещанию главнокомандующим и разослать по фронтам для раздачи командующим корпусами и начальникам дивизий, сказать в полный голос правду о тех, кто должен держать ответ. Он назвал поименно Иванова, Куропаткина, Эверта, Щербачева, Рагозу, Гурко… Он бы мог прибавить еще десяток имен. Но что это изменит? Когда нет верховного. Его не будет и в день совещания. Во главе стола сидит его величество: лицо безответственное и не имеющее мнения.
«Но тогда я должен решать. Я — сам!»
Алексеев знал: его решение тоже ничему не поможет, ничего не изменит. Все пойдет так, как идет. Записку прочтут и обидятся. Доклад на совещании выслушают и примут к сведению, но воз — как стоял, так и будет стоять. Нет, покатится под гору. И сколько бы ни подставлять палок, ни тащить в гору — воз скатится и разобьется.
Сидя у себя в ставке в Могилеве, Михаил Васильевич так же, как и Игнатий Порфирьевич Манус, пребывающий в Петрограде, но еще более наглядно, чем последний, убеждался в том, что сопротивление в стране крепнет. И сила эта пугала начальника штаба верховного не менее, чем пугала она директора Международного банка.
Для достижения счастья и процветания России нужна была победа над Германией, а именно в победу начштаба верховного не верил.
Спасением от страха для Мануса являлся сепаратный мир, для Алексеева — победа над немцем. Победы ждать было нельзя при нынешних условиях. Надо было найти разумную и сильную волю, которая хотя бы отвела угрозу позора поражения. Эта воля должна переломить волю врага на фронте и коварные происки немца в тылу. Она должна устранить причины справедливого ропота и недовольства народного и тем самым отвести от народа соблазн революции. Эта воля должна сама стать властью и хозяином России.
Так Алексеев пришел исподволь к согласию с Гучковым, что необходимо на что-то решиться… Медленно, но твердо идти к своей цели. Сначала пусть это будет его личная, Михаила Васильевича, диктатура в вопросах снабжения армии и тыла… потом… Гучков недоговаривал. Тем меньше хотел говорить Алексеев, да он и не знал, что сказать…
Гучков назвал имена «друзей». Пустовойтенко, генерал Крымов, депутат Коновалов[42], член блока Брянцев…
«Неужели даже и Пустовойтенко?.. Боже мой! Боже мой! Если уже и такие готовы идти на риск…»
Алексеев ждал к себе Гучкова, как было между ними условлено, на 14 февраля, но затянувшееся нездоровье задержало депутата. Он прислал письмо с просьбой принять вместо себя члена Государственной думы Александра Ивановича Коновалова. «Он отлично ведет дело и ознакомит вас со всеми сторонами деятельности Центрального Военно-промышленного комитета», — писал Гучков, между строк давая понять, что именно этот человек вполне надежен и его надлежит выслушать до конца.
И вот он сидит перед Михаилом Васильевичем. Он смотрит на начштаба верховного с глубоким вниманием и сочувствием. У него умное, подвижное лицо. Он нравится Михаилу Васильевичу. Никакое предубеждение не разделяет их. Предосторожности излишни. Нет оснований скрывать поставленную перед ними заговорщицкую задачу.
— Мы бессильны спасти будущее, — говорит Алексеев. — Никакими мерами нам этого не достигнуть. Будущее страшно. А мы должны сидеть сложа руки и только ждать. Ждать часа, когда начнет валиться… А валиться будет бурно, стихийно. Вы думаете, я не сижу ночами и не мучаюсь мыслью о последнем дне войны… о демобилизации… Ведь это же будет такой поток разнуздавшегося солдата, которого ничто не остановит. Ничто!
Пауза, глухое покашливание, брови хмуро нависают над усталыми желтыми веками.
— Я докладывал государю об этом несколько раз. В общих, конечно, выражениях… Мне говорят: «Что тут страшного? Все радешеньки будут вернуться домой… Никому и в голову не придет скандалить… У вас всегда мрачности, Михаил Васильевич…» Мрачности! — вскрикивает Алексеев. — А между тем к окончанию войны у нас не останется ни железных дорог, ни пароходов, ничего! Все износили, все изгадили своими собственными руками!
— Но неужели же его величество этого не видит? — закидывает Коновалов самый острый крючок и даже съеживается от нетерпения.
— А, Боже мой! — досадливо, как о чем-то давно наскучившем, отвечает Алексеев. — Он смотрит глазами своих приближенных! Им не с руки рисовать какую-нибудь «мрачность»! Она им невыгодна.
Коновалов обрадованно кивает головой. Крючок не ранил. Спора о «его величестве» не будет. Дальше?
— Каждый из этих субъектов уже нацелился на какой-нибудь лакомый кусочек, — продолжает Алексеев, не замечая радостного волнения собеседника. — Каждый старается уверить его величество в том, что все идет прекрасно под его высокой рукой… Да что говорить! Разве царь понимает что-нибудь из того, что происходит в стране! Разве он верит хоть одному мрачному слову? Разве он не хмурится, слушая мои доклады?..
Алексеев меняет положение тела, все ему начинает казаться неудобно, не на месте. Он чуть отодвигает папку с беловым текстом «Записки», смахивает какую-то соринку, поправляет воротник тужурки, но это не устраняет физического неудобства.
— Мы указываем ему на полный развал армии и страны. Избави Бог! Не подчеркивая, обходя острые углы… Доказываем правоту, непреложность нашей точки зрения… а он посылает нас с Пустовойтенко ко всем чертям… Ко всем чертям! — повторяет Михаил Васильевич безнадежно, устало, твердо уверенный в том, что физического беспокойства ему уже не избыть, сесть удобно не удастся.
— Да… тяжело… — сдержанно соглашается Коновалов. — Не завидую вам, Михаил Васильевич…
Он прикидывает: не пора ли начинать? Нет. Время еще не приспело. Генерал хочет высказаться до конца. Не надо мешать.
— Знаете ли вы, что приходится испытывать ежечасно? — говорит Алексеев. — Ведь ни один шельма министр не дает теперь окончательного мнения ни по одному вопросу, не сославшись на меня! «Как полагает Михаил Васильевич?» А что может полагать Михаил Васильевич, кроме одного, что такого министра надо гнать в шею, что при таких министрах — не выйдет!
Руки сами собою потянулись к папке с «Запиской», подняли ее над столом — вот сейчас отшвырнут в сторону… Но нет — бережно опускают на место. Что бы там ни было, деловых бумаг не швырять!
Коновалов это отметил как добрый знак. Стремление к порядку не покинуло начштаба, оно подскажет ему выход из беспорядка.
— Какой же выход, Михаил Васильевич? — спрашивает решительно Александр Иванович.
Алексеев отвечает готовно, точно ждал этого вопроса:
— Терпение… молитва… Знаете, как мать с больным дитятей… без сна… день, два, месяцы…
К такому ответу Коновалов не готов. Его можно было ждать в начале беседы, но не теперь. Депутат вслушивается — он не верит в искренность слов.
— Разумом знает мать — нет спасения, — глухо, точно себе самому, продолжает Алексеев, — а сердцем… не спи, оберегай, как можешь… до последнего часа…
— Но ведь это же самоубийство! — вскрикивает Коновалов.
— А как же иначе? — спрашивает Алексеев.