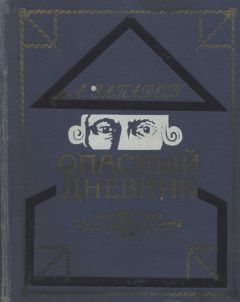— Зато к наукам способный и разумом одаренный, — возразил Порошин. — А кроме того, к моей системе он уже приучен. Арифметику всю великий князь у меня окончил и в геометрии сделал начало.
— Ну, разве что так, — сказал Сумароков. — А мне в гидравлике и фортификации без бутылки не разобраться.
— И еще одно сочинение готовлю, Александр Петрович: «Государственный механизм». Хочу вывести и показать его высочеству разные части, которыми движется, как машина, государство. Изъяснить, например, сколько отечеству потребно солдат, сколько земледельцев, купцов…
— Не с дворян ли перечень ваш начинать надлежит? — спросил Сумароков. — Дворяне — голова, крестьяне да солдаты — руки и ноги, вот как я рассуждаю.
— Дворянство — само собой, — ответил Порошин. — Я не о господах, а о работниках говорю и намерен его высочеству объяснить, как и кто своею долею помогает общему благоденствию. Император должен знать и помнить, что государство его никоим образом не может быть благополучно, когда одно какое-то сословие процветает, а прочие все в небрежении.
— Это правда, — сказал Сумароков. — Все члены рода человеческого почтения достойны. Презренны только люди, не приносящие обществу пользы, исключая больных и увечных, которых нужно жалеть и содержать. Крестьяне пашут, купцы торгуют, художники услаждают, воины берегут отечество. И сколько почтенны нужные государству члены, столько презренны тунеядцы, в числе которых полагаю я и дворян, которые заботятся только о собственном богатстве и возносятся своим маловажным титулом.
Он поболтал в сулее оставшуюся водку, вылил ее в стакан, осушил его двумя глотками, взялся было за вилку, торчавшую в рыбе, но отдернул руку и с жаром воскликнул:
— Дворянин! Великая важность! Разумный священник и проповедник, или, кратко, богослов, за ним — естествослов, астроном, ритор, живописец, скульптор, архитектор и прочие — по сему глупому положению принадлежат к черни… О несносная дворянская гордость, достойная презрения и поругания!
— И еще работа полезная у меня есть, — приостановил поток речей Сумарокова Порошин. — На этот раз — вместе с отцом Платоном. Задумал составить как бы нашу с ним переписку о разных исторических и нравоучительных материях. Теперь часто за границей книги, письмами наполненные, выходят. Из опыта ведая, что дети не любят выслушивать сухие истины, я в общении с великим князем старался то, что нужно преподать, незаметно вмешивать в наши разговоры, чтобы прямым учительным словом не возбуждать скуки и отвращения.
— Тоже верно, — сказал Сумароков. — Наставления часто противны бывают. Правда, я сочинил «Наставление хотящим быть писателями», но мой слог скуки доставить не может по своей замысловатости.
— Нравоучение роду человеческому полезно, — продолжал Порошин. — Кто станет сомневаться в пользе науки, отворяющей путь к добродетели? Наиславнейшие в ученом свете люди ищут способов распространять нравоучение. Старались украсить его блистанием прелестной одежды* чтобы возбудить охоту к чтению: так появились в книгах разговоры, письма, притчи, выдуманные путешествия. К этому роду принадлежат и сочинения, известные под именем романов, изобретенные Для того, чтобы, описывая в них различные похождения, сообщать правила добродетельного жития. Это выдумка пс нова: давно известны греческие и латинские романы.
— Пользы от романов мало, а вреда много, — возразил Сумароков. — Не спорю, есть и хорошие романы, например, «Телемак» или «Дон Кишот», может быть — еще два-три, что содержат в себе нечто достойное. Но из романа весом в пуд спирту и одного фунта не выйдет!
— Согласен, — сказал Порошин, — есть много плохих романов, но не значит же, что надо все романы отвергать! Есть романы полезные, и греметь против них немилосердно. Чтение разумно писанных романов опорачивать ни малейшей нет причины. Они учат добру, исправляют нравы. В них между звеньями цепи любопытнейших приключений положены бывают наставления и добродетели.
— Ин будь по-вашему, Семен Андреевич, — сказал Сумароков. — Устал я сегодня. Дайте приют горемычному. Я уж на свой Васильевский остров не доберусь на ночь глядя.
— Оставайтесь, Александр Петрович! Сейчас все будет.
Порошин пошел в спальню устраивать нечаянному гостю постель.
4
Вечером того же дня в кабинет Панина постучался Тимофей Иванович Остервальд. Он еще днем попросил разрешения прийти и теперь, уложив спать великого князя, выбрал время для своего доклада обер-гофмейстеру.
Панин в халате на лисьем меху сидел за письменным столом, заваленным бумагами, которые кипами возили ему каждый день из Иностранной коллегии. Он ленился их разбирать, и если советники коллегии, помогавшие ему в делах, несколько дней не приезжали, на столе свободного места совсем не оставалось.
— Садитесь и рассказывайте, что у вас происходило, Тимофей Иванович, — сказал Панин. — Весь день в коллегии маялся.
— Его высочество все исполнял по порядку, — ответил Остервальд. — Только на меня был раздражен и смотрел косо. А как я пошел просить его обедать, он, осердясь, крикнул: «Зачем тебя черт принес? Для чего не пришел ко мне Порошин?» Я государю-цесаревичу доложил, что напрасно он изволит гневаться и что нельзя ему одного Порошина любить и жаловать, остальным это, мол, обидно и они за то ненавидят Порошина. Великий князь сказал, что пусть ненавидят, а он еще больше любить Порошина станет, назло им, и что сам Никита Иванович приказывает Порошину давать всем кавалерам и учителям наставления.
Никита Иванович нахмурился.
— Не было у меня таковых приказов, — процедил он сквозь зубы. — То есть не уступал Порошину власти над всеми комнатными великого князя, это его высочество придумал.
Он постучал пальцами по столу и начальственным голосом отдал распоряжение:
— Впредь чтобы один на один с великим князем никто не оставался. Очень дурно его высочеству так изъясняться, а того хуже, если речи его происходят от чьих-либо внушений.
— Совершенно справедливо изволили заметить, ваше сиятельство, — зашептал Остервальд, — это внушение Порошина. У них с великим князем такой уговор, чтобы только его, Порошина, слушаться. Вчера, например, его высочество утром, после чая, заигрался и на урок мой не шел, а Порошин ему сказал: «Вспомните-ка договор, вы обещали всегда меня слушаться», — и великий князь тотчас пришел в учительную комнату.
— Что ж за уговор такой? — спросил Панин. — Может быть, это и ничего, ежели его высочество при напоминовении об уговоре смирен бывает?
— Так бы совсем ничего, — сказал Остервальд, — но беда вот какая. Порошин велит, чтобы цесаревич только ему одному подчинялся, и все по изволению порошинскому делал, а других, — и ваше сиятельство тоже, простите великодушно, — не слушался. А ведь это куда как далеко завести может!
— Да… может… — повторил Панин.
— Ваше сиятельство, — опять заговорил Остервальд, — я место для постройки дома выбрал на Казанской улице, а средств к тому не имею, и помощи ждать, кроме как от вашего сиятельства, не от кого…
— У меня также денег нет. Надобно вам просить великого князя, он согласится, а я буду предстательствовать за вас у государыни, — сказал Панин. — Не скрою, сударь, однако, что, дело свое сделав, то есть о Порошине доложив, отменно скоро воздаяния требуете… Поспешность такая не всегда бывает уместна. А впрочем — ничего…
Люблю воинственную живость
Потешных марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость…
А. Пушкин
1
Весна пришла скорая, славная, восемнадцатого мая Двор покинул Зимний дворец и перебрался в Летний. Однако вольности прогулки великому князю не было: лишь раз-другой он проехал в карете по Петербургу.
Уроки продолжались в обычном роде, но Порошин стал не очень доволен своим воспитанником. Он занимался неохотно, перестал рассказывать о своих играх, ссорился с Куракиным. Увидев, что компаньон трусоват, Павел по вечерам пугал его, выскакивая из-за углов, и заставлял плакать.
Что ж, Порошин был уже достаточно умудрен опытом и знал, что в придворном кругу приливы и отливы расположения высоких особ не редкость. Он твердо решил не огорчаться такими обидами и следовать раз навсегда принятой системе — делать свое дело, быть спокойным, бодрым, не расстраиваться от ядовитых намеков, злых шуток, прямых выпадов со стороны завистников и клеветников.
Холодность цесаревича — следствие наговоров, дурные мысли рассеются, и случай этот будет завтра забыт. Поссорились — помирились, так уж бывало, — думал Порошин. Как же должен быть рассмотрителен государь, чтобы не впадать в заблуждение, уметь отделять дурных людей от хороших, знать, кому верить можно и чье слово людям вредительно… Противным этому правилу поведением цари могут лишиться верных помощников, благоразумных друзей, надежных слуг — и остаться среди подлых обманщиков, льстецов, невежд и грабителей.