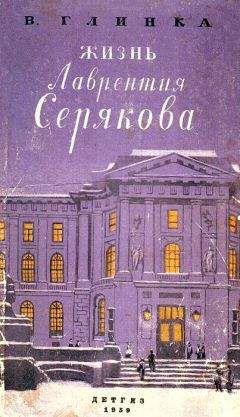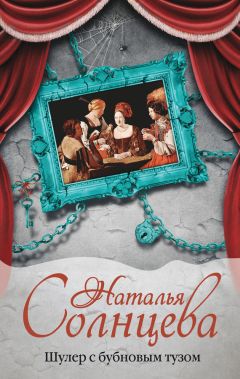И эту ночь и следующий день Лаврентий то сидел на окне, то ходил из угла в угол, то ложился на кровать в своей комнате. Не открыл на звонки Антонова — только он один и мог так долго звонить у двери, присланный обеспокоенной отсутствием сына Марфой Емельяновной. Но никого не хотелось видеть. Нужно было побыть одному, скрыть от всех то, что чувствовал.
Поздно вечером Кюи постучал к Лаврентию, передал запечатанный конверт и, ни слова не сказав, поспешно ушел. Серяков развернул набросанную карандашом, видно наспех, записку.
«Лаврентий Авксентьич! Я знаю, что виновата перед вами. Верьте одному — вы мне были как родной человек с самого первого взгляда. Вы, наверное, это сами заметили, потому что я не умею нисколько притворяться. Я думаю, если бы мы еще ближе познакомились и вы сочли меня достойной, я не посмотрела бы ни на что и ждала бы вас, сколько нужно, хоть годы. Но А. П. приехал… Он ни в чем передо мной не виноват, я была к нему несправедлива. Простите меня и поверьте, мне самой сейчас нелегко. Но иначе поступить не могу. Желаю вам счастья и знаю — вы будете большим художником.
О. Н.».
«Видно, вчера Кюи все-таки что-то заметил и рассказал ей», — подумал Серяков.
И опять он запер двери, дунул на свечу и зашагал в темноте по комнате. Эх, доля проклятая! Ведь чувствуй он себя полноправным человеком, не держи себя все время на тугом поводу, — стал бы чаще видеть Оленьку и, может, осилил бы этого Александра Петровича… Но она-то не виновата перед ним, не виновата, как Настенька… Добрая, благородная душа, сама пишет, что ждала бы его сколько нужно… А вот и не пришлось ждать… До чего же все похоже на «Белые ночи», просто удивительно! Недаром так было близко обоим, так брало за душу… Только одного и Достоевский не придумал: все-таки его мечтатель — человек свободный. Но и подневольный солдат при всей нынешней боли не жалеет, что встретил Оленьку…
За неделю Лаврентий немного справился с собой, хоть не раз бывало, что штихеля валились из рук, хоть осунулся так, что все замечали и спрашивали о здоровье. После долгих колебаний решил идти на свадьбу — пусть Оленька видит, что рад ее счастью, пусть не будет у нее тяжело на сердце.
Венчали в новосильцевской церкви. Серяков стоял далеко от новобрачных, за пришедшими поглазеть соседками и богаделками, и не рассмотрел как следует жениха. И к чему ему знать, каков этот счастливый молодой лекарь? Видел только, что рослый, худощавый блондин стоит рядом с Оленькой, там, где так хотел бы стать он сам… Нужно было собрать все силы, чтобы простоять здесь весь обряд, не дать никому заметить, что с ним творится.
В голубом домике было шумно и тесно. Оленька в белом шелковом платье была очень красива, но показалась Лаврентию бледной и не такой сияющей, как, бывало, здесь же, совсем недавно, во время фантов или танцев.
Когда в череде гостей Лаврентий подошел чокнуться с молодыми шампанским, Ольга посмотрела ему в глаза прямо и твердо и сказала только одно слово: «Спасибо». Но ему показалось, что прозвучало это слово иначе, чем сказанные другим, — поблагодарила не за поздравление, а за то, что простил ей свою боль и пришел.
Он пил и ел, сколько было нужно, танцевал со многими барышнями, но в самый разгар веселья ушел через кухню, чтоб никогда больше не приходить сюда.
На другой день Кюи зашел к нему вечером и сказал несколько прочувствованных фраз о мужестве и самообладании. Но, увидев строгое лицо Серякова, поспешил пожать ему руку и, пробормотав совсем невпопад что-то невнятное о красоте Александрины, оставил его одного.
…С 1 октября занятия в академии и гравирование заняли Серякова так, что, казалось, некогда стало думать о чем-нибудь, кроме повседневных работ. Но еще долго в классах, в мастерской и дорогой на Васильевский остров вставали перед ним картины недавнего прошлого. Образ Оленьки лишь медленно-медленно отступал в тень, недавняя боль сменялась грустью.
Думала и Марфа Емельяновна о случившемся в жизни сына. Материнским чутьем с того воскресенья, когда не зашел на Озерный вечером, она поняла, что в жизнь Лаврентия вошла девушка. Не раз, придя раньше обычного обедать, он спешил идти к новым знакомым на Выборгскую сторону, а в лице его появилось небывалое выражение оживленности и счастливого беспокойства. Уж она-то по себе знала, что значит этот отблеск счастья, это нетерпеливое ожидание. Разве не так же год назад ждала она своего седого Архипа Антоныча? И вдруг все потухло. Она ничего не спрашивала и почти все поняла. Как солдату жениться! Что хорошего принесет он девушке? И опять горько упрекнула покойного мужа, что, по своей вине, угодив под красную шапку, обрек и сына на ту же долю.
В середине октября в артель возвратился Линк, и все стало очень похоже на прошлую осень. Так же Лаврентий, уходивший чуть свет в академию, заставал товарищей за граверным столом, так же после второго похода в классы он досиживал свои часы уже один, при лампе. Но реже бывало весело в мастерской, меньше рассказывал и шутил Клодт, реже заезжал вдруг постаревший, озабоченный, торопливый Башуцкий. Лаврентий заметил — редактор не так уже гладко говорит и чаще прикрывает глаза, собираясь с мыслями. Александр Павлович все толковал теперь о новых заводах художественной бронзы герцога Лейхтенбергского и купца Шопена, произведения которых будто не уступают лучшим французским. Однажды на ломовике привезли целый ящик образцов — золоченых чернильниц, канделябров, масляных ламп, настольных колокольчиков, — и Серяков рисовал, а Линк гравировал их для статьи Башуцкого, прославлявшей успехи отечественной промышленности.
Дела изредка заходивших за небольшими заказами Агина и Бернардского шли плохо, цензура запретила многие новые гравюры к «Мертвым душам».
Некоторое оживление в вечернюю жизнь артели вносил Петр Карлович Клодт, работавший теперь над барельефами для памятника Крылову в Летнем саду. Уже несколько месяцев в мастерской его жили медвежонок, волк, лиса, обезьяна и ворона. Клодт любил животных, умел наблюдать их, его карандаш за граверным столом набрасывал целые пантомимы из маленьких выразительных фигурок. Обычно неразговорчивый, он оживлялся и становился красноречивым, рассказывая о своих «натурщиках». Особенно заняли слушателей приключения медвежонка-подростка, свободно гулявшего по мастерской. Однажды поздно вечером мишка выбрался на улицу через форточку, которую сторож позабыл закрыть. Выйдя на пустынную набережную Невы, медвежонок сначала побродил в одиночестве, но потом увидел встречного человека и направился к нему, чтобы поиграть. Шедший из гостей мастеровой перепугался до полусмерти, увидев поднявшегося на задние лапы медведя, и бросился бежать. Но мишка не отставал и следом за парнем вломился в двери подвала на 3-й линии, где жило несколько мастеровых. На счастье, среди них оказался один из формовщиков академии. Он узнал клодтовского питомца и отвел его в мастерскую, предварительно угостив стаканом водки.
Больше всего этой истории смеялся простодушный Кюи, и Лаврентий с удовольствием смотрел на его оживившееся лицо. В последнее время Наполеон как-то присмирел и побледнел — видно, и у него что-то не ладилось на Выборгской стороне.
Вечером во время прогулки — они по-прежнему изредка гуляли вместе перед сном — Серяков сказал Линку:
— До чего же будет рад Архип Антоныч, что его любимому писателю собираются ставить памятник!
— Да, это хорошо, — согласился, без всякого воодушевления Генрих Федорович. — Но знаете, Лаврентий, у нас Крылова желают понимать только как поучительного детского сказочника. Поэтому именно в Летнем саду памятник поставить решились. А Пушкин, Грибоедов и Лермонтов долго еще монументов от благодарного потомства не дождутся. Навряд ли мы с вами их увидим…
— Ну, почему же, — возразил Серяков. — Портреты и книги их продаются, их любят, читают…
— Продаются у нас всё более портреты царей и цариц, господ министров, генералов и всяких сановников — такие покупают охотно купцы, офицеры и чиновники. И читают у нас только в городах, население которых составляет пять процентов всех подданных империи, а для прочих грамотность при крепостном праве почитается вредной… Впрочем, вы, пожалуйста, о таких материях не думайте. Ваша задача пока одна — чтоб в академии все шло как по масленице. Как у вас там?
Но Серяков не мог не думать. Каждое оброненное Линком замечание присоединялось к тому, что раньше слышал и читал, обдумывалось во время долгих походов на Васильевский остров.
А в академии все шло своим чередом. Профессора хвалили рисунки Лаврентия, неизменно ставили ему первые номера, и в этом году он надеялся перейти в натурный класс.
«Только бы дали окончить курс, только бы подольше не вспоминало обо мне военное начальство!» — думал он постоянно. Однако начальство о нем не забывало. В ноябре Серякова вызвали к Григоровичу.