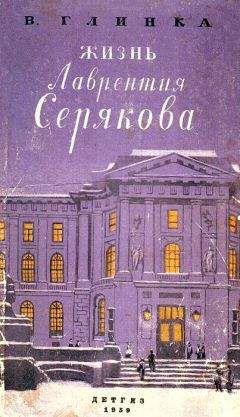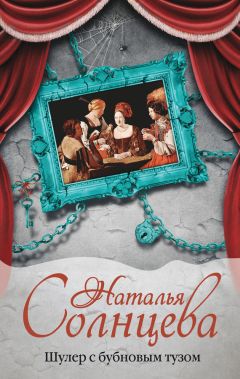— Как, батюшка, хотел бы ты послужить в батальоне кантонистов учителем? — спросил конференц-секретарь.
Сердце Лаврентия замерло. Что же это? Ведь шесть лет назад он едва вырвался из учителей в писаря, когда пешком с арестантами пришел из Пскова в Петербург. Неужто все начинать сызнова?
Видно, мысли его отразились на лице.
— Не очень, кажется, тебя такая карьера прельщает, — усмехнулся Григорович. — Говори прямо, хочешь или нет?
— Никак нет, ваше превосходительство, — заторопился Серяков. — Ведь это, поди, будет означать конец моему здешнему учению.
— Так же и я думаю, — кивнул конференц-секретарь. — Запрашивает барон Корф, можно ли назначить тебя учителем в учреждаемое при здешнем батальоне кантонистов граверное заведение. Конечно, ты мог бы там обучать мальчишек, да на занятия, верно, времени не оставалось бы… Вот я и отпишу барону, что совет академии находит необходимым оставить тебя всецело здесь в связи с отличными успехами.
— Заступитесь, пожалуйста, Василий Иванович! — попросил Лаврентий.
— Уж заступлюсь, — засмеялся Григорович. — Ведь есть у тебя и еще ходатай. Прежний твой патрон, а мой добрый приятель Нестор Васильевич, писал мне недавно из Новочеркасска, просил не давать тебя в обиду. Только и ты, батюшка, не сбавляй старания.
— Рад стараться, ваше превосходительство! — вытянулся Серяков, мысленно благословляя Кукольника: опять помог, добрый человек. Хоть и далеко заехал, а все не забыл.
Еще прилежнее налег Лаврентий на рисунок и в декабре был переведен в натурный класс. Это считалось важнейшей ступенью в академическом курсе — переходом к обучению живописи. Предстояло самому выбрать профессора, у которого хочешь учиться в этом классе и затем в этюдном. Тот же профессор будет руководить и программой на звание художника.
Серяков колебался между суховатым, но внимательным к ученикам Марковым и более талантливым, но занятым своими обязанностями по Эрмитажу Бруни.
И не поспел сделать выбора — надолго прервались его академические успехи.
В рождественском посту, один, без Антонова, жарко выпарившись в бане, Лаврентий выпил ледяного квасу у торговки, сидевшей при входе, и до Озерного шел нараспашку. А на другой день занемог. Мучительно болела голова, ломило все тело. Матушке, когда ходил обедать, не сказал ничего — думал, пройдет. Ночью поднялся жар. К утру он не узнавал суетившихся около Линка и Кюи. Известили Клодта, и тот днем привез знакомого старика штаб-лекаря.
— Горячка, — сказал врач. — Надобно тотчас везти в госпиталь, а то всех перезаразит. Укутать одеялом с головой, в сани — и на Слоновую.
Он дал записку, куда положить больного, и обещал сам приехать следом.
Три недели Лаврентий был между жизнью и смертью. Когда ж стал приходить в себя, не верилось, что это его тело так плоско обозначается под казенным жидким одеялом, — казалось, остались одни кости. А бескровные руки все время мерзли, хотя кровать его стояла в лучшем месте палаты, у печки.
Фельдшер и соседи — больные солдаты — наперебой рассказывали, как бредил академией, плакал, что отправляют по этапу с арестантами, а у него нет сил идти, не раз поминал Оленьку и твердил, что был бы не хуже какого-то Александра Петровича.
— Уж и не чаяли, что оживешь… Сколько крови у тебя пиявки высосали, страсть!
Соседи говорили, что, наверное, не миновать бы Лаврентию столь частого здесь солдатского конца, если б много раз не навещал его вместе со старым лекарем артиллерийский полковник. Он давал кому следовало на чай и наказывал ходить за больным день и ночь. А в сенях или на дворе полковника часто дожидались старый военный писарь, заплаканная женщина и высокий статский в холодной шинели.
В первые дни выздоровления Лаврентию все время хотелось есть. Но старый лекарь накрепко запретил брать в рот хоть крошку сверх позволенного, пригрозил смертью и растолковал, что следует постепенно привыкать к пище.
И еще томило желание поскорей уйти из этого безотрадного места. Неспроста он видел в бреду арестантский этап — палата, где очнулся, во многом была на него похожа, только что по-казенному чисто. Выровненные по линейке на крашеном полу, стоят в два длинных ряда железные койки. Но даже днем здесь все серо — стены, одеяла, халаты, обросшие лица. А долгими зимними вечерами и ночами еще хуже. Тускло горят в двух концах палаты одинокие сальные свечи в фонарях, стонут и бредят едва различимые на койках больные. Как тени, бродят, шлепая туфлями, выздоравливающие. В одном углу, чтобы отвести душу, играют в кости или слушают чьи-нибудь россказни, в другом хрипит умирающий. Печку, несмотря на январские морозы, топят один раз в сутки, и на окнах ледяные узоры не оттаивают никогда. Больные стучат зубами, кашляют. После утреннего обхода лекаря лежачие просят ходячих укрыть их хоть на время вторым одеялом, дать отогреться. Пища холодная и такая скудная, что на ней мудрено поправиться.
Конечно, все это было знакомо Лаврентию, все похоже на любую российскую казарму, на которой наживаются многие начальники. Только здесь еще люди-то больные, беспомощные, придавленные сознанием, что навряд ли выйдут отсюда живыми. Не приноси Марфа Емельяновна каждый день сыну свою стряпню, вовек не поправился бы и он. А каково есть, когда вокруг полуголодные люди? Хорошо, что матушка готовила всегда с большим запасом — знала, куда несет, — и он мог покормить соседей.
Наконец Антонов перевез Лаврентия на Озерный, и здесь наступили счастливые дни. Уже без оглядки ел он все, что готовила Марфа Емельяновна, сам жарко топил печку и смотрел за окно, где под февральским солнцем начиналась первая капель со сверкающих сосулек.
Серякова навестили Клодт и товарищи по артели, а каждые два — три дня заходил Линк. Он принес номера «Современника», в которых были напечатаны «Обыкновенная история» и продолжение «Записок охотника». Читать целые дни, да еще такие книги, — что может быть лучше! Лаврентий даже матушке прочел вслух «Бурмистра».
Однажды после вечернего чая Антонов развернул «Северную пчелу». Не замечавший раньше у своего друга интереса к газетам, Серяков спросил:
— Что вы, Архип Антоныч, нашли там хорошего?
— Да вот боюсь, брат, не заварилась бы каша, — ответил старый писарь. — Покудова ты болел, венгерцы против австрийцев взбунтовались и крепко их потрепали. А сейчас, вишь, наши четыре корпуса приказано на границу двинуть. Гляди, не потащили бы и тебя обратно в топографы, если большая драка завяжется.
Встревоженный Лаврентий стал расспрашивать Линка, который опять зашел его навестить.
Матушка была в кухне, и все-таки, прежде чем говорить, Генрих Федорович опасливо оглянулся.
— Да что же, помогаем австрийскому императору венгерскую революцию душить, — сказал он пониженным голосом. — Венгерцы выбились было из векового подчинения, показали австрийцам, как нужно за свою свободу сражаться. Но мы — тут как тут. Можно ли не помочь «правому делу»? — Линк грустно усмехнулся. — Подпираем шаткие престолы, как после наполеоновских войн, во время «Священного союза», если о таком слыхали… Знаменательный год, дорогой Лаврентий! Пока нас холера занимала, в Европе смелые люди немало крови пролили. В Париже и Вене, Берлине и Франкфурте, Неаполе и Милане — везде нашлись герои, что человеческих прав требовали. И везде все по-старому осталось, только много могил прибавилось. Надо ли удивляться, что у нас те крохи либерализма, которые были, под стол сметают?.. Вы теперь, я полагаю, довольно окрепли, чтобы все услыхать… «Иллюстрации» нашей также больше не существует…
— Как! Почему? — привскочил на стуле Серяков.
— Очень просто… Сначала господин Крылов проиграл какой-то процесс по имению, тысяч, говорили, на шестьдесят, и без нужного капитала оставался… Впрочем, это, может, только дипломатическое объяснение — до журналов ли сейчас подобному господину? Не модно и не доходно… А недавно и у Александра Павловича неприятность, также для нашего времени самая понятная, вышла…
— Что ж такое? — спросил ошеломленный Серяков.
— Я все узнал от Константина Карловича, он, верно, и вам расскажет, — продолжал Линк. — Кто-то, видите ли, очень важная особа, сделал Башуцкому замечание, как он, камергер двора и превосходительный чиновник, и вдруг таким непочтенным делом, как журнал, занят. Это, видите ли, только разночинцу подходит. А Башуцкий наш не стерпел такое невежество и загорячился, наговорил лишнее. Доложили в самых верхах, и пришлось подавать прошение в отставку: оказался в немилости и без должности… Уж какое тут редактирование… Все рассказанное Линком подтвердил и Клодт.
— Но вы за себя, Серяков, не беспокойтесь, — сказал он. — Как сможете, перебирайтесь на Стремянную. За квартиру с дровами заплачено до июля, и работу авось какую-нибудь достанем. Жалованье ваше за январь и февраль Башуцкий передал мне, так что на первое время хватит.