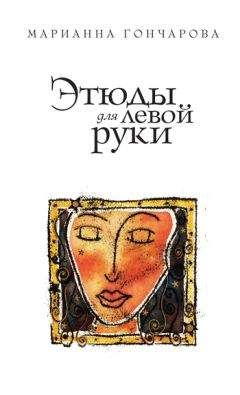— Неужели вы, князь! — вторил Шамбер. — Вот уж воистину, как говорят русские: гора с горой не сходится, а… дальше я забыл. Я в России по долгу службы. При французском посольстве. Еще на балу, когда мы встретились так внезапно, я хотел задать вам несколько вопросов, но вы исчезли. Как это говорят русские: в воду канули…
— Хорошо, что не в Лету… Бог миловал, — усмехнулся Матвей, — задавайте ваши вопросы.
— С огромным прискорбием я узнал, что Виктор де Сюрвиль погиб. Как это произошло?
— И вы у меня это спрашиваете? — потрясенно проговорил Матвей. — Я мечтал узнать это у вас. Разве вас не было в карете во время разбойного нападения?
— Ага. Значит, на карету было совершено разбойное нападение? Понятно.
— Вы хотите сказать, что вам это только сейчас стало понятно? — С негодованием вскричал Матвей.
— Ну конечно! Я расстался с Виктором и вами в корчме «Белый вепрь», вы были вполне благополучны, но как бы это сказать…
— Пьян в лоскуты, — докончил Матвей. — Ничего не помню. Ни-че-го!
— А откуда же вы знаете о разбойном нападении?
— По количеству трупов. Пуля попала Сюрвилю в голову.
— Бедняга… — Шамбер легко коснулся треуголки, словно хотел обнажить голову в знак скорби, да передумал. — Я был рад встрече с вами, а засим позвольте откланяться. Спешу. — Он еще раз покачал головой, — вот ведь как грустно все! — а потом быстрыми шагами пошел прочь.
— Мы еще увидимся, — крикнул ему вдогонку Матвей, — сойдемся, как две горы!
Родион вышел из-за своего укрытия и бегом направился к Матвею.
— Поговорили?
— Так точно. Не верю ни одному его слову. Но больше он на мою жизнь покушаться не будет. Я сумел внушить ему, что безопасен. Он агент, он служит в посольстве, о нем надо заявить немедленно.
— Кому? — с горечью воскликнул Родион. — Дело в том, что я видел этого Шамбера неоднократно…
— Где?
— На манеже. У Шамбера замечательные отношения с Бироном. И кому я буду об этом заявлять? Может, Бирон тоже агент?
— Тише ты! Что говоришь-то? — зашипел Матвей. — Эдак и мы с тобой шпионы. Ох, и не нравится мне все это. Пошли в кабак, смоем с себя эту скверну!
— За что отца взяли, знаешь?
— Это есть загадка России. Я думаю — донос. Богатство его сгубило.
— Да, русский человек завистлив, — согласился Матвей.
Родион хотел было добавить в приливе откровенности, что не раз предупреждал отца, что боком ему встанут овчарные заводы! Однако прикусил язык. Всякая откровенность имеет свой предел. И негоже знать князю Козловскому, что Люберов-отец на купеческом поприще деньги наживал. Другое признание вырвалось само собой:
— Отец мой не родовит. По материнской линии — я князь, но род наш пресекся.
Разговор происходил ночью во флигельке на Фонтанке, куда после попойки Родион доставил Матвея.
Чтобы смыть с себя скверну, князю понадобилось столько вина, словно он, испачканный с головы до ног, употреблял оный напиток не внутрь, а наружно. До извозчика Матвей дошел своими ногами, а потом его совсем повело.
— Люберов, видишь? Луна, зараза, рожи корчит… И болтает без умолку! Я не против, пусть говорит, но почему мужским голосом? Луна — и вдруг бас! Экое паскудство!
Родион решил, что в таком виде он не смеет сдать Матвея на руки его дамам, и повез князя во флигель. Там Флор отпоил гостя рассолом и квасом, вскоре тот захрапел, но через два часа пробудился вдруг, больной, но почти трезвый. Стеная и проклиная все и вся, он разбудил Родиона, потом опять выпил квасу, потом сбегал на двор опростаться, ну а после этого в тепле и неге начались разговоры.
— Ну что, молчит теперь луна?
— Молча за нами в окошко подглядывает. Хорошенькая…
Посмеялись… А потом под присмотром улыбающейся луны Родион и поведал сокровенное, рассказал об аресте отца, про муки матери, про славный род князей Хворостининых, что верой и правдой служили царю и отечеству. Матвей слушал очень внимательно, но сделал несколько неожиданный вывод из возвышенных воспоминаний о предках.
— Понятно, почему ваш род пресекся. За службой отечеству предки твои забывали детей рожать. А потом все по монастырям разбежались! Но ты, Родион, не тужи. Мне, например, с моего княжеского титула мало проку.
— Я и не тужу… — Хорошо, что никто не видит в темноте, как он покраснел. Матвей точно угадал в его страстных воспоминаниях обиду за утраченный княжеский титул.
— Вот и не тужи. Мои предки из смоленских князей, кто-то там был потомком Рюрика, но мне это не важно. Я, честно говоря, вообще сомневаюсь, был ли на Руси этот Рюрик. Его для нас немцы придумали… А у моих предков была волость в Вязьме, потом она куда-то подевалась. Из всех моих предков только один приобрел известность тем, что был, бедняга, убит в битве под Конотопом восемьдесят лет назад. В его честь меня Матвеем и назвали. — Он закинул руки за голову, потянулся истомно. — На Западе люди лучше живут. Чище… Там как говорят? Наш мир лучший из миров…
— Это кто ж говорит такое? — хмуро спросил Родион.
— Один немец. Лейбниц его зовут. Он писал, что, мол, Создатель, когда творил мир, перебрал кучу вариантов и выбрал лучший.
— А не перепутал? — усмехнулся Родион.
— Не думаю. На Западе этого Лейбница очень чтут. Философ, лютеранин — дока! Правда, некоторые образованные парижане с ним, как и ты, не согласны. Но это те, которые в Бога не веруют.
— Богохульники?
— Можно и так их назвать. В Париже они очень знамениты. Вся столица под их дудку танцует. Их повторяют, цитируют. В Париже Бога ругать сейчас модно. Некий аноним издал очень острую вещицу, называется «Персидские письма»[24]. В этой книге рассказывается о том, как персы — выдуманные персонажи — приехали в Париж, увидели все недостатки французов и высмеяли их.
— Книгу написал перс?
— В том-то и дело, что парижанин. Он не смеется над самими французами, но критикует порядки, суд, канцелярии государственные, туда-сюда… Ну, ты понимаешь!
— Этим бы персам в Россию приехать, — задумчиво бросил Родион и вдруг спросил: — А ты в Париже тоже богохульствовал?
— Впрямую нет, но там так принято. Если хочешь не выделяться и не отставать от времени, то к вере будь равнодушен, не шепчи постоянно молитвы, но умей одеться, умей руку даме подать. В разговоре надобно слыть интересным. А то скажут: у… русский медведь!
— Ради красного словца не пожалей ни мать, ни отца.
— Ты как-то уж чересчур серьезен. Во Франции так не принято. В этих «Персидских письмах», например, написано: «В Париже тот человек, у кого лучший выезд». Это, конечно, шутка. Сами они вроде бы так не думают, веря в добродетель, но с некоторой горечью отмечают, что для иных в хорошей карете весь смысл жизни. Но вообще-то я не то хотел сказать. — Матвей вдруг рассмеялся. — Суть в том, что жить нужно легко, не унывать и эдак над всем смеяться. И еще в этой книге описан персидский гарем. Представляешь? Дамы от этих «Писем» без ума.
— Теперь понятно, почему и ты от этих писем без ума. Пусти козла в огород.
— Ну уж это ты зря. Думаешь, я за каждой юбкой волочусь? — обиделся вдруг Матвей. — Думаешь, сердце у меня для всего женского пола открыто? А вот и нет. Есть у меня любовь, возвышенная и затаенная.
Матвей и сам не понял, как выскочили у него эти слова, но, произнесенные вслух, они тут же обрели свою собственную жизнь. Задушевная ли беседа была тому виной или лунный свет, таинственно разлиновавший пол квадратами оконных рам, или блестящие глаза Родиона, они как-то особенно сияли у него в темноте, но Матвей поверил себе совершенно, ей-ей, он не врал!
— Если хочешь знать, — продолжил он запальчиво, — я сейчас нахожусь в доме возлюбленной моего сердца — Лизоньки Сурмиловой.
— Так вот отчего ты на меня злился? — воскликнул Родион.
— А ты думал? Мы познакомились с ней в Париже в доме нашего посланника. Она больна, бедняжка. И папенька ее, на вид — настоящий боров, повез лечиться на воды и солнце. Она мне сразу приглянулась. Стройненькая, глазищи — во! Румянец во всю щеку. При этой болезни румянец первое дело. И чем она меня поразила? Тишина… каким-то особым внутренним покоем. Француженки суетливы, только и думают, как бы соблазнительнее грудь обнажить да ножку из-под подола выставить. И заметь, ничего не делают просто так. Я эту практичность у них ненавижу! Все они — Мими. А наша дева не такова. Лизонька Сурмилова тиха, застенчива, она скромна и бескорыстна. Понимаешь?
— Понимаю, о, как я тебя понимаю.
Родион уже сидел на лавке, одеяло упало на пол, но он не чувствовал холода. Что может быть интереснее в двадцать пять лет, чем разговор про любовь? И, внимая пылким речам друга, он сам переносился в уютную гостиную, где сидела, гордо вздернув головку, другая девица, прелестная и милая. Та, которую его семья разорила, оставив без приданого, и которой он никогда не сможет сознаться в своем чувстве, потому что сам неустроен и беден.