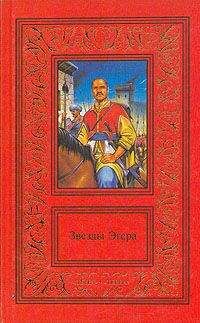Ага был поражен.
— Что ж это за невольники? — крикнул он, повернувшись к дервишу. — Почему они не хотят освободиться?
— Сказал же я, что это собаки! — завопил дервиш.
Пламя уже охватило повозку. Сипахи в нерешительности остановились.
«Главное — повозка!» — сказал им ага. И вот они стояли, вернее — топтались на испуганных конях вокруг пылавшей повозки.
— Гасите! — завопил ага. — Разбейте повозку! — И, дополняя приказание, крикнул: — Троим остаться тут, остальные скачите вслед за собаками!
Но кому остаться? И отчего горит повозка? Неслыханное, небывалое происшествие.
— Вы все еще здесь торчите! — накинулся на них ага. — Ленивые псы!
Но в тот же миг взвилось ослепительное пламя и раздался взрыв, потрясший землю и небо. На глазах вельможного турка земля разверзлась от огня.
Ни людей, ни повозки. Только косматый дервиш, оглушенный взрывом, торчит на коне, точно кот колдуньи на дымовой трубе.
— Что ж это было? — взревел ага, лежа на пыльной дороге, куда его сбросил конь.
Дервиш хотел кинуться ему на помощь, но конь его тоже взбесился, заплясал на месте, попятился назад, потом взвился на дыбы и, выпучив глаза, рванулся как безумный и помчался в поле. Подкидывая дервиша в воздух, роняя изо рта пену, одичав от ужаса, скакал он через рытвины и кусты. Но скинуть дервиша ему не удалось.
Ага с трудом встал на ноги, выплюнул пыль, набившуюся в рот, и злобно выругался.
Потом он оглянулся. Дорога напоминала поле сражения: кони бились в предсмертных судорогах, земля была усеяна ранеными и мертвыми солдатами. На месте повозки — пустота. В воздухе расплывалось широкое коричневое облако дыма — вот во что превратилась повозка.
Конь вельможного турка убежал, и горбоносый ага растерялся, не зная, что ему делать. Наконец он, прихрамывая, поплелся к своим солдатам.
Сипахи разметало взрывом, и они, как мешки, валялись в пыли. Из ушей, изо рта и носа у них текла кровь.
Увидев, что ни один солдат не шелохнется, ага сел у канавы и тупо уставился в одну точку, прислушиваясь к раздававшемуся кругом колокольному звону. Никаких колоколов тут не было и в помине — просто у него звенело в ушах.
Таким глухим тетерей и застал его дервиш, когда вернулся полчаса спустя на взмыленном, одичавшем коне.
Он привязал дрожащего коня к придорожному буку и поспешно подошел к аге.
— Что с тобой, господин?
Ага замотал головой.
— Ничего.
— Ты, может быть, ушибся? Что у тебя болит?
— Зад.
— Благословен аллах, спасший тебя от опасности!
— Благословен аллах! — машинально повторял ага.
Дервиш обошел по очереди всех коней, валявшихся на дороге и возле дороги. Некоторых попытался поставить на ноги, но куда там! Даже тех, что были еще живы, вконец покалечило, и они годились только в пищу воронью.
Он вернулся к аге.
— Господин, ты можешь встать? Дай я помогу тебе.
Ага, охая, потирал ноги, колени.
— Я отомщу! Жестоко отомщу! Да, но откуда же мне взять коней и солдат? — спросил он, тупо уставившись на дервиша.
— Должно быть, эти проклятые поскакали в Стамбул. Там мы их найдем, — рассудил дервиш.
Ага поднялся с трудом. Застонал. Ощупал свой зад.
— Иди сюда. Помоги мне сесть в седло и веди коня на постоялый двор. Поступай ко мне в слуги — ты лихой наездник.
Дервиш, опешив, взглянул на него.
— В слуги? — Но потом, покорно склонив голову, сказал: — Как прикажешь.
— А как тебя зовут?
— Юмурджак.
Пятеро всадников-венгров умчались далеко вперед по константинопольской дороге.
Кони остервенели от взрыва и летели как вихрь. В бешеной скачке один опережал другого, и прохожие сторонились уже издали, не понимая, что происходит: спасаются всадники от погони или просто скачут наперегонки.
Но как очутилась здесь Эва Цецеи?
Когда она накануне своей свадьбы встретилась с Гергеем, в ней окрепло прежнее чувство неразрывной близости с ним. Она всегда глубоко любила его, но со всех сторон на нее оказывали давление, и она не могла больше сопротивляться. У Гергея ни дома, ни земли, он гол как сокол, живет у своего опекуна. Они не могли даже переписываться, и Эва уже начала было покоряться своей судьбе.
Но появление Гергея сокрушило все доводы родителей и королевы.
— Глас сердца — глас божий! — сказала Эва Гергею. — Если ты найдешь хоть какую-нибудь лачужку, где нам можно было бы укрыться от дождя, мне во сто раз лучше будет там с тобой, чем в золоченых палатах с немилым.
Они бежали через покрытые снегом дялуйские горы, и лучи утреннего солнца озарили их уже возле Араньоша[44].
Лес оделся бледной зеленью весенней листвы. Повсюду цвели фиалки, а в долине желтели гусиные лапки, одуванчики и лютики. Воздух был пропитан целительным запахом сосен.
— Только теперь я понял, почему эту речку называют Араньош, — сказал Гергей. — Смотри, Эва, берега точно золотом усыпаны… Да что с тобой, ангел мой? Что ты задумалась? О чем печалишься?
Эва грустно улыбнулась.
— Да все тревожно мне. Девушка, а поступила не по закону!
Гергей взглянул на нее.
— Полно тебе…
— Нынче ты радуешься, что я послушалась веления сердца, но вот пройдут годы, мы состаримся, и ты припомнишь, что увел меня не из церкви, а просто из комнаты, где мы ужинали…
Мекчеи скакал впереди с румынским крестьянином, который вел их по горной дороге. Гергей с Эвой ехали на конях рядышком.
— Ты очень молод, — продолжала Эва, — и ни один священник на свете не согласится обвенчать нас.
Гергей, став серьезным, покачал головой.
— Эва, разве ты не считала меня всегда своим братом? Разве не то же самое чувствуешь ты и сейчас? Печалишься, что не было священника? Неужто ты не веришь мне? Так знай: пока мы не обвенчаемся, я буду беречь тебя пуще твоего белокрылого ангела-хранителя. Хочешь, я даже за руку тебя не возьму, не коснусь поцелуем твоего личика, пока священник нас не благословит?
Эва улыбнулась.
— Возьми меня за руку — она твоя. Поцелуй мое лицо — оно твое. — И она протянула ему руку, приблизила к его губам свое лицо.
— Как ты напугала меня! — с облегчением вздохнул Гергей. — Это в тебе катехизис заговорил. Я тоже папист, но мой наставник учил меня познавать бога не по катехизису, а по звездам небесным.
— Кто? Отец Габор?
— Да. Сам он был лютеранином, но никогда никого не желал обращать в лютеранство. Он говорил мне: истинный бог не тот, о котором говорят письмена и картины, истинный бог — не дряхлый раввин с бородой из пеньки, не истеричный старый еврей, грозящий людям из туч. О подлинной сущности бога мы не смеем даже помыслить. Мы можем постичь только его милосердие и любовь. Истинный бог с нами, Эва. Он ни на кого не гневается. Мудрость не знает гнева. Если ты обратишь глаза к небу и скажешь: «Отец мой небесный, я избрала себе Гергея спутником жизни!» — и если я скажу богу то же самое о тебе, тогда, Эва, родимая, мы супруги.
Эва, счастливая, смотрела на Гергея, слушала, как он говорит, тихо покачивая головой. «Видно, на сиротском хлебе душа созревает рано, и юноша быстро становится взрослым», — думала она.
Гергей продолжал:
— Поповские церемонии, Эва, нужны только для людей. Это вопрос приличия. Надо засвидетельствовать, что мы соединились по велению сердца и души, а не случайно, не на время, как животные. Браком, душа моя, мы сочетались с тобой еще в раннем детстве.
Мекчеи въехал на холм, поросший травой, и, остановив коня, обернулся, поджидая их.
— Не мешало бы отдохнуть немного, — сказал он.
— Ладно, — ответил Гергей, — сделаем привал. Вижу — вон там, внизу, речка. Пусть румын напоит коней.
Он соскочил с коня, помог сойти Эве, расстелил плащ на траве, и все прилегли.
Мекчеи развязал котомку, вытащил хлеб и соль. Гергей встал на колени, разрезал хлеб и первой протянул кусок Эве. Но, опустив руку, он положил ломоть и взглянул на девушку.
— Вица, дорогая, прежде чем мы с тобою будем делить хлеб, заключим пред лицом господа нерушимый союз.
Эва тоже опустилась на колени. Она не знала, чего хочет Гергей, но, слыша, как вздрагивает его голос, чувствовала что-то священное и торжественное в его словах и подала юноше руку.
— Мне, что ли, сочетать вас браком? — удивленно спросил Мекчеи.
— Нет, Пишта, нас сочетает тот, кто сотворил наши души. — Гергей снял шапку и взглянул на небо. — Господь, отец наш! Мы в твоем храме. Не в соборе с куполами, созданными руками человека, а под сводом небесной тверди, под роскошными колоннами деревьев, созданных тобой. Твое дыхание доносится к нам из лесу. Твои очи взирают на нас с высоты. Эта девушка с детства — моя нареченная, она милее мне всех девушек на свете. Только ее одну я люблю и буду любить вечно — до гроба и за гробом тоже. Воля людей помешала нам сочетаться браком с благословения людей, так дозволь же, чтобы она стала моей женой с твоего благословения! Девушка, перед лицом господа объявляю тебя своей женой!