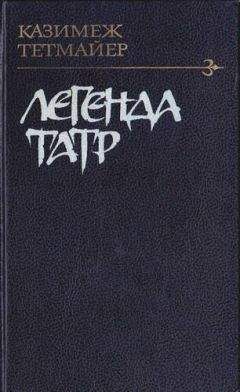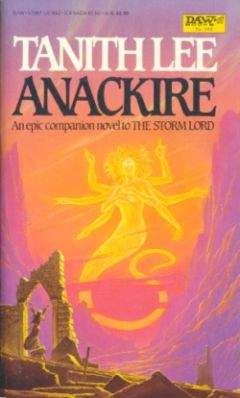Возница шел по левой, лесник по правой стороне дороги; они утаптывали перед санями снег, потому что лошади не могли бы тащить сани по бездорожью. Их запрягли цугом, чтобы они не забирали слишком в сторону. Вожжей не надо было держать; дорога была одна, и лошади шли за людьми, а епископ подхлестывал их кнутом да покрикивал.
Страшный это был лес, и епископ безмерно дивился ому. Деревья-гиганты росли здесь сплошною чащей, так что хвоя мешалась с листьями; больше всего было елей и буков. Попадались не только следы, но и стада кабанов и вепри-одиночки, проходившие так близко, что не раз приходилось людям хватать испуганных лошадей под уздцы. Показывались и волки, но их отгоняли выстрелами из пистолетов.
Казалось, звери эти знали, как вести себя с людьми, что епископ объяснял близостью Яносиковой банды, которая, вероятно, с ними не шутила.
Медвежьих следов встречалось тоже множество, но следы эти обледенели, и это означало, что медведи давно спят в берлогах.
Ехали уже несколько часов, настал полдень, но епископ утешал себя тем, что здешних полмили стоят пяти миль краковских.
Вдруг дорогу саням преградил высокий, широкоплечий, но стройный мужик, а за ним — еще трое, все вооруженные чупагами, ножами, пистолетами и ружьями.
Епископ струсил, хотя он и ехал затем, чтобы повидаться с разбойниками.
— Куда едете? — спросил высокий, подходя ближе.
Что за грозный вид! Волосы до плеч, лицо огрубевшее от морозов и ветров, загорелое от дыма и жара костров. Шапка обшита барашком, с наушниками и с синим суконным верхом, с красной кистью и четырьмя золотыми галунами, нашитыми на сукно возле кисти крест-накрест; полушубок нараспашку, а под ним пояс с набором; штаны короткие, из белого сукна, чудесно расшитые синим и красным; из белого же сукна «чулки». Рукавицы тоже белые, искусно разузоренные белой, красной и синей шерстью.
Все это резко выделялось на фоне снега и поражало епископа.
— Куда едете?
— К Яносику Нендзе.
Удивился мужик.
— Куда? — повторил он, словно ослышавшись.
— К гетману, Собек, сказывают, — отозвался горец, стоявший за его спиной.
— К гетману? К нему нельзя.
— Я настоятель Тынецкого монастыря, епископ, — сказал ксендз Пстроконский, — Едем мы, как видите, только втроем, а ежели вы меня не отпустите назад, хотя я и поклянусь, что не выдам, — воля ваша.
Мужики сняли шапки, переглянулись.
— А зачем едете?
— Просьба у меня.
— К нам одни мужики с просьбами приходят.
— А вот и у меня просьба есть.
Мужики опять переглянулись подозрительно и недоверчиво, но тот, который первым вступил в разговор, сказал:
— Пусть себе едут, Собек. Ведь какую даль лесом проехали, а сами-то небось дальние. И всего-то их трое. Да коли с просьбой и епископом себя называет…
— Ну, поезжайте, — сказал Собек, — Ступай, Куба, с ними, чтобы в шалаше знали, что мы их видели.
Мужик пошел впереди.
— Сторожите? — спросил его лесник.
— Гм… — буркнул мужик. Не к чему было и спрашивать.
«Порядки у них, как в войсках, — подумал епископ, — Хорошая стража. И пан Ян Хризостом Пасек из Гославиц[30] не сумел бы лучше вымуштровать ее».
Впереди стало светлее, и епископ увидел крыши.
«Здесь», — подумал он, и невольная дрожь пробежала по его телу.
Вскоре он увидел шалаши и большие сараи; над крышами вился дым. Поляна была большая, со всех сторон окруженная лесом.
Мужики в крайнем удивлении высыпали им навстречу.
— Слава господу Иисусу Христу! — поздоровался с ними епископ.
— Во веки веков! — ответили мужики. — Куба, это кто такой?
— Епископ.
Мужики обнажили головы, и в это время Яносик Нендза вышел из шалаша бацы.
— Эй, там! Кто едет? — спросил он.
— Епископ!
— Епископ? Какой? Откуда?
— Из Тыньца! — закричал ксендз Пстроконский. — Настоятель бенедиктинского Тынецкого монастыря.
— Здравствуйте. А чего надо?
— Яносика Нендзу Литмановского.
— Вот он я, — сказал Яносик.
Епископ подъехал уже к самому шалашу.
— Милости прошу, входите. Да осторожней, а то порог высокий, а притолока низкая, — приглашал Яносик, помогая епископу выйти из саней. И, обратившись к своим людям, велел епископских лошадей и слуг накормить, напоить и отвести в тепло.
Епископ вошел в шалаш и сказал: «Слава господу богу», — а из глубины старый Саблик, Кшись, Марина и сидевшие вкруг очага мужики отвечали ему: «Аминь».
— Милости прошу, садитесь, — пригласил Яносик, придвинув гостю самодельный табурет на трех ножках.
Перед епископом наставили всякой еды и питья: мясо, печень оленя, вино и мед, — таких не пили и в Тенчине у панов Тенчинских, которые в золотых стременах ездили.
«Из хороших погребов награблено», — подумал ксендз Пстроконский, смакуя эти напитки. Его гостеприимно и почтительно потчевали, а он пил, ел и озирался кругом. Шалаш был приспособлен к зиме, щели законопачены мхом, а на очаге горел жаркий огонь, и в самые трескучие морозы можно было возле него согреться. По стенам висело оружие, награбленное в шляхетских домах, и ковры, принесенные оттуда же. Люди, окружавшие ксендза, производили на него странное впечатление: дикость, соединенная с каким-то величием, отличала их резко очерченные лица, а обхождение носило отпечаток врожденной учтивости, какой не встретишь у простолюдинов.
Ксендз Пстроконский смотрел на Яносика, а тот из деликатности не спрашивал, зачем он приехал, предоставляя епископу заговорить самому.
Наконец ксендз Пстроконский встал, сотворил над головами присутствующих крестное знамение и сказал громким голосом:
— Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Вы — разбойники!
В шалаше стало тихо. Затем Яносик сказал, не вставая со скамьи, на которой сидел он возле стены, протянув ноги к огню:
— Отче епископ, разве вы за этим приехали?
— Вы — разбойники, — взволнованно повторил ксендз Пстроконский, — грабители, поджигатели и убийцы!
Приехал он не затем, но не мог совладать с собой: возмущение против разбойников охватило его.
Но Яносик сказал:
— А паны Циковские, Ланцкоронские, Стадницкие, Былина, Лещ, которые с мужиков живьем шкуру драли, плетьми до смерти забивали и скотину мужицкую гончими затравливали, — они кто такие?
Смутился епископ: знал, что Яносик говорит правду. А Яносик поднялся во весь рост, касаясь головой потолка, и громким голосом заговорил:
— Я в Полянах сидел, на горах, а разбойничать ходил только в Венгрию. Я бедным помогал, потому что разбойник всех людей хочет сделать равными: затем господь бог его создал, затем его и хранит. Я в Польшу не хаживал. Но пришли ко мне с плачем и жалобами такие же мужики, как и я, и призывали отомстить панам. Я сюда пришел защищать мужиков от панов и мстить панам за мужицкие обиды. Вы меня называете грабителем, поджигателем и убийцей, — так берите же крест, станьте во главе мужиков и защищайте их! Да!
Яносик гремел на весь шалаш.
Ксендз Пстроконский поднял руки к небу и воскликнул:
— Как господь бог обратил Савла в Павла, так и я тебя, разбойничий атаман, хочу обратить в защитника короля!
Мужики переглянулись: они не понимали слов епископа.
А епископ Пстроконский продолжал:
— Господин и отец наш, король Ян Казимир, бежал от шведов в Силезию. Пресвятая дева Мария спасла Ясногорский монастырь, и народ воспрянул духом, надежда просыпается в сердцах. Кое-где поднимаются даже бедняки, простые люди и колотят врагов во имя пресвятой девы. Король жаждет вернуться, стать во главе восстания против шведских насильников. Живет он в Ополье, в Силезии, недалеко отсюда, за горами. Горцы! Короля надо провести в Польшу через ваши горы!
На это Яносик, который было снова уселся и протянул ноги к очагу, сказал:
— А мне какое дело до этого?
— Как какое дело? — воскликнул ксендз Пстроконский. — Ведь ты же поляк, сын Польши, Речи Посполитой?
— Я поляк, а там, за Татрами, — липтовцы и венгры, а внизу — ляхи.
— Какие такие ляхи?
— А те, которые возле Кракова и в Кракове живут.
— Да ведь это-то и есть поляки. Братья твои!
— Братья мои, гурали, ходят в лаптях. А ляхи — это другой народ.
— Да ведь речь у них та же самая!
— У рыб тоже один язык, а нешто форель щуке сестра? Или мурена — лососю?
— Постой! Ведь король один надо всеми?
— Медведь тоже в Татрах хозяин, а ведь ради этого коза с лисицей вместе воду не пьют?
— Вы короля своего не любите?
— Я его не видал.
— Не хотите помочь тому, кто нуждается в помощи?
— Да я с Полян спустился и четыре года людям помогаю.
Ксендз Пстроконский стал взволнованно рассказывать о короле. О том, как жил он в Варшаве в замке и владел и правил страной, как пришлось ему бежать и скитаться. Наконец Гадея, лежавший в углу на скамье, заметил: