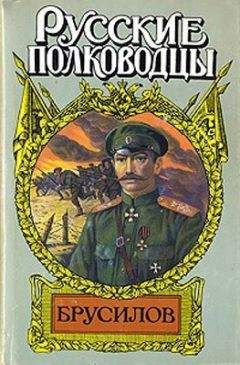— Давай Бог нам всем и в ближайшее время такую конституцию!
Ротмистр Гулевич, товарищ Игоря еще по полоцкому корпусу, где Игорь учился до поступления в специальные классы Пажеского, ранен был немецкой саблей в самом начале войны, ему ампутировали ногу, он по протекции устроился в дворцовое ведомство и получил в управление дворец Лейхтенбергского, где организовал лазарет для раненых офицеров Петроградского гарнизона.
Игорь был встречен с распростертыми объятиями. Ему предложено было устроиться в личных апартаментах управляющего, тут же во дворце, но Игорь отказался и лег в просторной палате, двусветном зале с лепным потолком и мраморными стенами, теперь затянутыми белым холстом, бок о бок с Чегориным и другими товарищами по несчастью. В зале было просторно, светло, приятно накурено сосновым экстрактом; сестры почти все были или вдовы, или сестры убитых на войне офицеров гвардейских полков; они внимательно, по-матерински относились к своим подопечным, которых в большинстве знали или о которых слыхали по имени еще до войны. Гулевич тотчас же сообщил об этом Игорю, гордясь своей идеей устроить все «по-домашнему, не выходя из своего круга».
Игорь с радостью, как все, что давала ему сейчас жизнь, принял и тишину зала, и запах сосны, и молчаливых сиделок, и пожилых сестер, сменяющихся у его изголовья. Ему нужен был полный покой не только потому, что петроградские врачи, снова осмотрев его, нашли, что у него задето правое легкое и не исключена возможность воспалительного затяжного процесса, но и потому, что в его душевном состоянии радостного возбуждения, озаренности и ожидания неминуемого счастья состояние физического покоя и окружающая его тишина полнее сберегали ощущение кануна.
Игорь все еще отстранял от себя мысли о возможной встрече с Потаниной, но они присутствовали во всем, о чем бы он ни думал, и всего более, как это ни странно, в его воспоминаниях о пережитом на фронте и особенно о последних часах после ранения…
Сосредоточить мысли на записках, переписать их и начать письмо Брусилову Игорь еще не был в состоянии, но мечтать о письме и обо всем, что могло быть с ним связано, — ничто не мешало.
Мать не возвращалась из имения, куда переехала со дня отъезда Ирины на фронт. Олегу Игорь не сообщал о своем приезде, откладывая встречу с одного воскресенья на другое, о Константине Никаноровиче он и вовсе не хотел думать и даже просил Гулевича, чтобы тот как-нибудь не проболтался среди общих знакомых о его пребывании у Лейхтенбергского. Но каждое появление в зале приватного лица в приемные часы наполняло его сладкой тревогой ожидания. Вдруг откроется дверь…
Он не писал Потаниной, не звал ее к себе, как хотел это сделать, едучи в Петроград. Он испытывал судьбу, он ждал, что Любинька придет сама… Почему? Ответить себе на этот вопрос он не мог бы.
К Чегорину, чуть ли не с первого дня его приезда, повалил народ. Несколько пожилых и, кажется, очень известных актеров, но всего больше красивых, щебечущих, ахающих женщин. Среди них, конечно, были и актрисы и ученицы театральной школы, с Игорь не любопытствовал узнать их имена, не расспрашивал о них Чегорина и почти не слушал того, что актер рассказывал о них.
Но ждать становилось все мучительней. Как ни уговаривал себя Игорь, что он вовсе и не ждет, и занят другим, и полон впечатлениями от новых знакомств, беседами с соседями по койке, городскими новостями, очень волнующими, и сообщениями с фронта о мартовской операции, и воспоминаниями и мыслями об открывшемся ему неписаном законе войны, — мучительное нетерпение все больше овладевало им.
Только к середине марта Игорю разрешили встать, дали чернила и бумагу, и он занялся перепиской записей своих и составлением письма Брусилову.
Закончив письмо, он несколько раз перечел его себе самому и стал искать в памяти, кому еще можно было бы его прочесть. Чегорину, с которым он успел сойтись приятельски, — актер оказался славным малым, как и большинство лежащих в палате, — Чегорину давать письмо не хотелось. Игорь понимал, что актеру мысли о войне, об армии глубоко безразличны. Когда Игорь на заданный ему вопрос Чегорина, что это он все пишет — не стихи ли? — попытался вкратце объяснить характер и назначение своих писанин, актер только повел бровью, лицо его исказилось скептической улыбкой, и он сказал:
— Боюсь, как бы вы не влипли в грязную историю с этим вашим письмом. Никаких даже намеков на правду у нас не выносят… А уж выслушивать обвинения и нотации от младшего в чине — избави Бог! Живым закопают в землю! Так было и с Пушкиным, и с Лермонтовым… А вы еще захотели в прозаической форме! Правду их превосходительства только в доносах и поздравлениях терпят. Добрый вам совет — остерегайтесь…
Остерегаться Игорь не собирался, скепсиса не выносил, особенно теперь, когда все было так серьезно и важно в жизни. Но прочесть письмо, до отправки его по адресу, казалось совершенно необходимым. И тут внезапно вспомнился Мархлевский.
Игорь даже обрадованно привскочил с кровати, когда ночью пришла ему эта мысль.
Наутро же была отправлена с денщиком записка, и 31 марта капитан Мархлевский уже сидел рядом с Игорем, все такой же вихрастый, бородатый, темный лицом и светлый своим умным, добрым и проницательным взглядом.
— Все еще мучаетесь долгом? — спрашивал он, добродушно посмеиваясь и в то же время зорко поглядывая на Игоря.
— Нет, делом! — оживленно и очень счастливо, что видит перед собою этого так мало знакомого, но на диво близкого человека, отвечал Игорь. — Нет, делом, которым все еще не могу заняться.
— Каким, смею спросить?
— Вот этим! — И Игорь помахал увесистой пачкой убористо исписанных почтовых листков. — Собственно, не совсем так, — поправил он, — эта часть дела, — он опять взмахнул листками и хлопнул ими о колено, — уже закончена, и ею я хочу поделиться с вами. Ругайте как знаете, мне это нужно… А самое основное дело впереди — когда вернусь на фронт.
— Не надоело на фронте?
— Нет.
— Это хорошо. Люблю упрямых. Ну, давайте вашу писанину, я ее сам прочту, слушать не умею…
Мархлевский взял листки, уселся поудобней к свету и стал читать. Игорь ни на мгновение не отрывал от него загоревшегося взгляда. Время тянулось долго. Наконец капитан опустил на колено последний листок, поиграл задумчиво по всей пачке пальцами и только тогда поднял глаза на Игоря.
Смотрел он твердо, отчужденно, так, точно проверял Человека, способен ли он на трудное и опасное дело. Таким взглядом Игорь и сам глядел не раз на рядового, вызвавшегося в разведку.
И Игорь принял этот взгляд как должное, нисколько не задетый.
— Ну-с, — сказал Мархлевский, — кому адресовано это письмо?
— Алексею Алексеевичу, вы же видите! — вскрикнул Игорь, уверенный, что каждый знает имя-отчество главнокомандующего. — Брусилову я пишу.
— Это что же, ваш очередной божок?
— Ах нет, ну что вы! — опять без тени обиды на насмешку (Игорь чувствовал, что насмешки и нет вовсе в этом вопросе, связывающем давнюю их беседу с настоящим разговором) воскликнул он. — Совсем это не то… Пишу я именно Брусилову, потому что… Странно, конечно, так говорить о главнокомандующем, о большом полководце… Но пишу я ему, потому что он… как бы это выразить точнее?.. Потому что он душою, и сердцем, и умом — русский человек… Да, иначе не скажешь. Просто русский человек, каких у нас большинство… и вместе с тем — один только он. Понимаете?
— Понимаю, — не изменяя выражения глаз, подтвердил капитан. — И чего же вы хотите достигнуть Этим письмом?
— Я хочу, чтобы то, что ясно каждому русскому солдату — не умом, а разумением жизненной правды… самой простой, практической, — поспешил пояснить Игорь, боясь, что его слова могут показаться превыспренними, — чтобы это ясное теперь и для меня — стало ясно тем, кто ведет нас в бой. Только всего…
Мархлевский смотрел недвижно, требовательно и молчал.
— Чтобы они поняли простой закон войны.
— Какой?
Это похоже было на испытание, на исповедь. Игорь отвечал, как от него требовали, с предельной ясностью.
Ясность приходила к нему по мере того, как он говорил. И это было для него самым ценным, это было то, чего он хотел, к чему стремился и не мог раньше достигнуть.
Он ответил тотчас же:
— Закон бить врага согласной волей, непременно согласной, и чтобы каждому из нас помогать друг другу чем можно и как сумеешь… Вот только всего…
Произнес он эти слова очень спокойно, не повышая голоса, с каким-то естественным, ненадуманным убеждением. Слова произносились как бы для определения смысла того, что было сейчас у него перед глазами. А видел он все то, что так часто перебирал за последнее время в своей памяти, — все испытанное и услышанное им на войне.