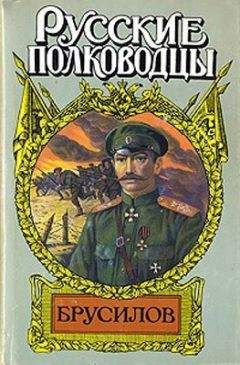Игорь сам, — когда настала пора, попросил, чтобы его отвезли в Петроград, в лазарет принца Лейхтенбергского. Заведовал этим лазаретом его товарищ по корпусу Гулевич. Игорь твердо решил, что встретится с Потаниной именно там. Напишет ей письмо и вызовет к себе. Она должна согласиться на это свидание. Раненому не отказывают. Он ей скажет…
Тут что-то путалось — и мысли о письме Брусилову, и пространные объяснения, почему он осмелился ее к себе вызвать, и воспоминание о розе, которую так глупо он не предложил ей, и уверения в том, что теперь он не тот, чем был тогда…
В роскошном санитарном поезде графини Татищевой, увозившем Игоря в Петроград, с ним рядом лежал легко раненный измайловец, оказавшийся актером Чегориным из Александринки. Игорь ничуть не удивился тому, что случай свел его с человеком, которого, несомненно, должна была встречать Потанина, а может быть, даже была знакома ему. Напротив того, он удивился бы, если б ему сказали, что такие случайности очень редки и ему повезло. В том состоянии небывалого подъема всех жизненных сил, несмотря на боли в плече и в груди и повышенную температуру, а может быть, именно благодаря им, Игорь все жизненные явления воспринимал как порождение своей воли, как следствие какой-то внутренней работы его существа, переполненного силою желаний.
Врачи и сестры удивлялись тому, как быстро у него шел процесс заживления раны и восстановления сил. Они приписывали это каким-то особенным свойствам его молодого организма, хорошему составу крови, устойчивости нервов и многому другому и не догадывались о том, что с первым же мгновением пробуждения, нет, раньше, с той секунды, как его поразил разрыв снаряда, Игорь совершенно инстинктивно, но с присущей ему страстностью возмутился против смерти и упорно стал бороться за жизнь.
— У нас при Александринке есть театральная школа, — сказал он Чегорину.
— Да, господин капитан… И я преподавал в ней.
— Там училась моя сестра, — продолжал Игорь, наперед зная, что ему должны ответить. — Вы ее, конечно, знали. Ее зовут Ириной Никаноровной.
— Смолич? — вскинулся Чегорин и впервые посмотрел на раненого капитана с пристальным вниманием.
Лицо Игоря осунулось и горело кирпичными пятнами на обтянувшихся скулах. Всего более поражали его глаза. Они всегда у него были рыжими, с очень влажными белками, отчего казались выпуклыми. Теперь же в них сосредоточена была вся жизнь, весь огонь, вся воля, которые точно выплескивались из глаз, покоряли своим немигающим блеском.
— С Ириной Никаноровной я не только встречался в театральном училище, — пояснил Чегорин учтиво и неожиданно сочувственно, — но провел в соседстве и был вхож в дом ее матушки, вашей матушки, — поправился он, — летом четырнадцатого года. На даче, в Сестрорецке… Я привык звать сестру вашу Ириной, она была тогда еще подростком. Вокруг нее всегда была молодежь, подруги, обожающие ее…
— Подруг вы тоже знаете? — прервал его Игорь.
— Еще бы! — оживился Чегорин. — С одной из самых горячих ее обожательниц — Любовью Потаниной — мы были в театральной поездке летом прошлого года… прелюбопытный звереныш, шальная девчонка… очень талантлива, только вряд ли что выйдет в нашем зверинце…
— Благодарю вас, — оборвал его Игорь и отвернулся, закрыл глаза. — Я устал и плохо слышу. Не трудитесь говорить, поручик.
Его ждало счастье. О нем не только думать, но и мечтать было страшно… Игорь не пытался восстановить в памяти смутный образ девушки с перышком на шляпке. Ожидая услышать и услышав ее имя, он не повторил его, ревниво сберегая до первой встречи… Встреча эта неминуема, как неминуемо то, что поезд завтра остановится на дебаркадере в Петрограде.
Сейчас Игорь отдавался своим воспоминаниям. Память восстанавливалась медленно, обрывками. Овладеть ею было необходимо. Что-то таилось в ней важное.
Вот он лежит в глубокой колее. Рядом чернеет в снегу другая колея, дальше рытвина или канава… В канаве какая-то туша. Игорь напрягает зрение… Он видит лошадь… Она еще дышит. Нелепо торчат над дорогой ее задние ноги. Одна нога, подкованная блестящей подковой, дрожит мелкой дрожью. И, глядя на нее, Игорь сам начинает дрожать… Сперва руки, ноги, потом все тело охватывает судорожная дрожь… Игорь пытается отвернуться, чтобы не видеть, позабыть эту страшную лошадиную ногу с серебристой подковой, делает слабое движение в сторону, грудь сдавливает огненное кольцо, он задыхается, стонет, теряет сознание…
Вторично сознание возвращается к нему от собственного крика. Он кричит таким голосом, каким кричат томимые кошмаром люди, слыша себя и не имея силы заставить себя замолчать и проснуться.
И вдруг чей-то негромкий, спокойный, отчетливый голос:
— Господи! И чего это человек кричит? Чего он кричит, право? Молчал бы уж лучше.
И сразу от этого голоса огненное кольцо, давящее грудь, размыкается, необычайный покой снисходит на душу.
— Кто там? — шепчет Игорь, думал, что говорит громко, всем существом ощущая близость человека и радуясь ей, как спасению.
Кто-то шевелится в канаве рядом с лошадью, и снова раздается соболезнующий голос:
— Землячок, а землячок… что же это ты, братец?.. Где ты там?.. Экий какой, право… Сильно раненный?
Человек смолкает, хлюпает вода, что-то шуршит, и через какое-то время снова голос, но значительно ближе:
— Тут, брат, не вылезешь… Яма какая, грязища… В ногу меня… в ногу не шибко, а вылезть сил не хватает… Ну что ты скажешь!..
Снова сопение, возня, шмяканье грязи.
— И снегу… и глины… не разберешь… совсем какая-то не наша зима… Ты не слыхал, землячок, наши далеко ушли?
Игорь понимает вопрос, хочет ответить, но только мычит.
— Эк тебя как! — И ожесточенно: — Выберешься тут! Ползком и то не выходит!
Они лежат, невидимые друг другу.
— Ишь, как животная мучается, — снова из полузабытья доносится голос. — Человек страждает за свое дело… а животная за что?..
Опять долгое молчание, возня, сопение и, как нежданная ласка, теплое человеческое дыхание.
— Уходить отселе надо, место дурное, проезжее… не ровен час, раздавят…
Сильные мокрые руки захватывают беспомощно кинутые руки Игоря, тянут волоком одеревеневшее тело. Нестерпимая боль огненной лавой подкатывает к горлу, Игорь разевает рот, что-то клокочет и спирает дыхание, кидает в кромешную тьму…
Проходят минуты, может быть часы. Два человека лежат на краю канавы и ждут помощи. Они мокры, грязны, сверху запорошены снегом, неразличимы в предрассветной мгле.
Это не сон, а забвение — тяжелое и глубокое, но не лишившее способности слушать. Игорь слышит вздохи своего случайного товарища, отдаленный собачий вой, все нарастающее гудение и скрип, гул и тяжелый топот.
— Артилле… — хрипит он.
— Чую! — отзывается лежащий рядом. — Чуть бы раньше — беда! Нипочем раздавили бы… А теперь нам подмога…
Еще темно, но уже можно различить во мраке бесконечную черную вереницу лошадей, орудий, согнутые спины ездовых, слышатся звонкие в предрассветном морозце голоса, покрикивания на лошадей, всплески нагаек, тяжелый говор пудовых колес…
Приложив руки ко рту, лежащий рядом что-то кричит. Долго, очень долго люди не откликаются, грохоча мимо. Вереница пушек все ползет, подскакивая на ухабах, закидывая грязью… Две черные фигуры соскакивают с одного из ящиков, подходят к раненым, поворотясь к ним спиной, кричат в сторону:
— Стойте!.. Забрать надобно! Раненые!
От черных пушек и черных силуэтов людей и лошадей несется чей-то глухой отклик:
— Забирай!
Игорь чувствует, как его поднимают, и в четвертый раз погружается в тьму…
* * *
У самых своих глаз Игорь видит пропитанное влагой от растаявшего снега сукно. Голова его лежит на чьих-то теплых коленях, бережно прикрытая полою шинели. Пола топорщится, ерзает по голове от движения повозки или орудия, колеса которого скрежещут внизу. В свободное пространство, открытое глазу, видно белесое небо, поле, запорошенное снегом, и снег, падающий равномерно большими хлопьями, усыпляющий своим однообразным полетом…
От дыхания хлопья, залетающие под полу шинели, мгновенно тают и холодными струйками затекают за воротник гимнастерки. Может быть, этот холод и вернул Игорю сознание, но в эту минуту он гораздо мучительней, чем боль в груди, усиливающаяся от толчков. И все же Игорь боится шевельнуться, переменить положение, потому что всего дороже ему человеческое тепло под — щекой, этот очень знакомый и в обычное время отвращающий запах затертых, просаленных хлопковым маслом, заношенных артиллерийских брюк… И так хорошо пахнет сыростью и хлебом от шинели, и таким ласковым и ободряющим кажется голос, доносящийся откуда-то издалека, сверху, строго покрикивающий: