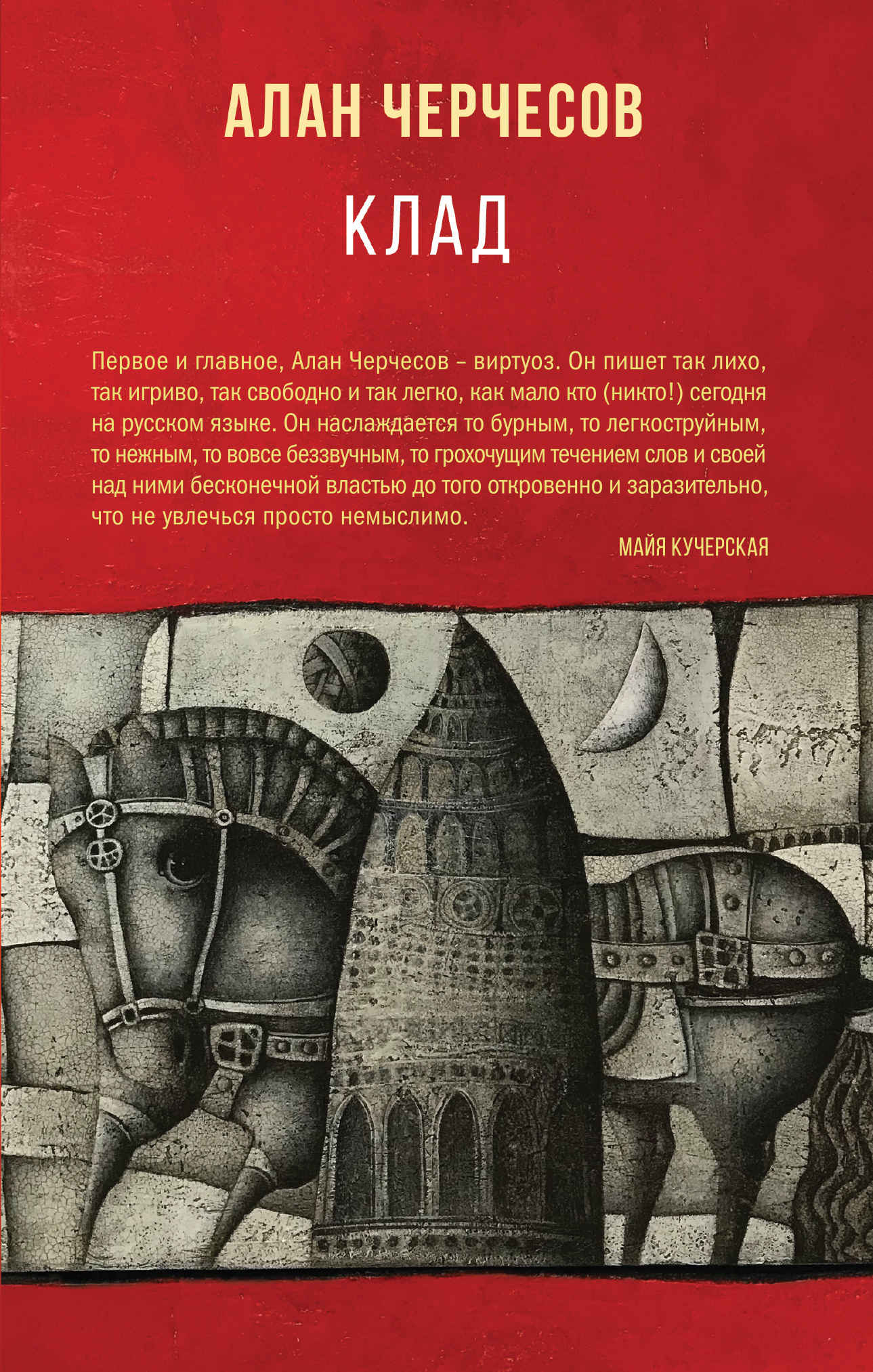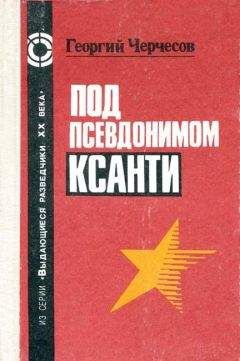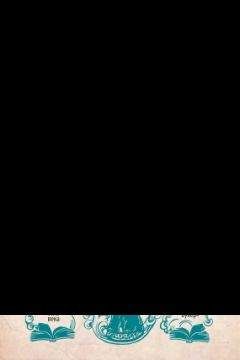телевизор, материн живот, огромный и страшный, так что даже рукой не хотелось потрогать, сморщенный влажный комок, еще противнее живота, и мать, опять враз худая, бритоголовый носатый заморыш, пришедший на смену младенцу, – братишка, брат, а до того лишь две сестры, и старшая помнит его, Тимура, таким же, каким он помнит Руслана, а средняя младше на год, и он вообще не знает, помнит ее или нет, а мать таким вот образом помнит каждого, и никто из них вот так не помнит мать, даже Баба, который помнит так их отца… Все ушло, хотя и осталось, и больше, Тимур это знал, не вернется, а если вернется, то совсем иначе, потому что уже однажды ушло. Новое приходило, и старое отступало, пряталось, как сейчас в будке Никто, и вместо него – шершавый брусок в руках, дождь и теплые стружки…
– И твой отец, – сказал Баба.
Тимур обернулся. Дед сидел у окна на гладком прочном табурете и, опираясь на палку, смотрел на улицу. Палки было две – выходная и «рабочая», на каждый день. По вечерам, в хорошую погоду, Баба толкал калитку и, уложив левую руку на поясницу, отправлялся на «охоту». Через полчаса он возвращался и раскладывал на печи окурки. Тимур опускал глаза и краснел, злился, но молчал. Как-то на собранные за неделю медяки он купил старику папиросы, но Баба, ни слова не сказав, швырнул их в печь. В тот день Тимур внезапно понял, что так плохо с ним еще никогда не поступали, и с того дня не мог понять, любит деда или ненавидит.
– Что – отец? – хмуро спросил он.
– Отец и дождь. И потом – все вы… – произнес старик, но не повернулся.
Свет из окна скользил по голому черепу и ближе к шее терялся в морщинах. Челюсть вычерчивала на стекле острый силуэт, худая спина под мундиром слегка горбилась. Сидел он прямее, чем ходил: прогуливаясь с палкой по улице, был похож на истлевшую лозу или выбранную из котла черемшу. Недавно еще тело его казалось поджарым и молодым, и Тимур с любопытством разглядывал в бане – маленьком пятачке из ржавых загородок в поле – смуглую мускулистую фигуру. Лицо было старое, а тело молодое. Но затем, как-то сразу, состарилось и оно, и Тимур, робко водя мочалкой по уставшей спине, боясь задеть толстый, как кишка, позвоночник, с досадой глядел на дряблый живот и жидкие мышцы, думая: как тестом замазали.
– Мы?
– Все, – кивнул дед, – но сперва – твой отец.
Он снова умолк. Тимур пожал плечами. На улице лило – щедро теперь, хорошо, свободно, времени оставалось немного. Обточить нос, загладить бока и днище, прикрепить парус. Интересно, подумал он, сколько их было, до этой? Сколько ливней, столько и лодок. Каждый раз новая, а брат злится и плачет. Стащит лодку, спрячет (где – убей, не найдешь), а в дождь вынесет на дорогу, как свою, пустит рядом и смотрит, закусив губу, голова квадратная, в шишках, хуже тимуровской, хуже дедовой, а упрямый – хуже Розки или тощего ишака, смотрит, рядом плетется, глаз не оторвет, и до конца улицы, будто не ясно, что проиграл, будто у нее, у лодки его (то есть вовсе не его), вот-вот моторчик включится или крылья вырастут, и сапогом притопывает, волну гонит, а она ее с парусом накрывает, только первую, новую, вперед кидает, психует, кулаки сжимает, но в глаза и не взглянет, расплакаться боится, а потом схватит лодку, свою, старую, – и за топором, стукнет пару раз, расколет, присядет на корточки, рот открытый, слезы уже бегут, быстро-быстро, нос большой, широкий, как совок, губы кривые, урод уродом, и жалко делается, хотя сам не лучше, это уж точно, сам не лучше, а все равно – дашь подзатыльник, чтоб не привыкал, чтоб не позорил, сопли не распускал, и тут же кинется на тебя, маленький, крепкий, даже больно, хоть рука не больше сливы… Потом глядишь – твоей нет. Исподлобья хмурится, ясно, что не сознается и не отдаст, а искать – не отыщешь, без толку. Видно, суждено прятать, а Тимуру вырезать: руки без дела глупыми становятся. Только вот у Баба лежат себе на палке, но кажется, что работу делают. Красиво. Дождь идет, он в окно смотрит, страшный – а красиво. Под верандой все плещется, полнится, будто вот-вот выглянет, поползет – но нет, ничего… И никого, кроме деда и него. В город поехали, воскресенье, базар. Вдвоем в целом доме, не считая Никто, но того из будки не выманишь, шкуру бережет. Вдвоем – и не скучно. Потому что дождь. Это когда снег – хорошо вместе, чтобы вся улица. Или когда солнце. А так…
– Тогда – тоже дождь. Такой же, – сказал Баба.
Тимур помедлил.
– Тогда?
Дед кивнул головой.
– Отец твой по лужам шел, сверху лило. Много, сплошная вода. В конюшне брезент взял, укрылся. А я смотрел из окна и знал, что вернется.
– Угу, – безо всякого интереса буркнул Тимур.
– Не мог не вернуться. Это я понял, когда он под дождем шагал, а перед тем верил, потому и коня продал. С конем бы легче ушел.
Тимур молчал, но взгляда не отвел. Баба кивнул через плечо:
– Дай сигарету.
Внук подошел к печи, выбрал окурок подлиннее и взял спички. Дед закурил, с сипом вдохнул дым. Тимур стоял рядом, выжидая, не решаясь двинуться к двери.
Старик разговаривал редко: начнет, до середины не доберется и смолкнет. А спрашивать – не спросишь. Вынесет на улицу табурет и сидит весь день, будто, кроме палки и табурета, ничего ему в жизни не нужно, лишь бы глаза смотрели, а там и язык ни к чему. Молчит, словно устал, сто лет говорил, а потом вдруг понял, что кругом глухие.
Баба пошаркал носками по половице, расправил под ногами, так же, сидя, откинул палкой занавеску, уставился в окно и застыл – там, на улице, и остался. Где взгляд – там и Баба.
Внук засопел, негромко постучал ножом о деревяшку. Старик никак не отозвался. Тимур застучал сильнее, но не часто, чтоб не злить. Дед выждал паузу, пустил дым, медленно большим пальцем указал за спину, на голову под потолком.
– Пока в кабана целишься, жалко не бывает. Да и когда выстрелишь. Смотришь, как глаза стеклом стынут – опять не жалко. Кровь в висках стучит, запахи забивает. Без них жалости не почувствуешь. Но вдохнешь хорошенько – а воздух уж не тот, плотный слишком, словно глину глотнул, тут-то и поймешь. В горле застрянет, и не выбьешь ничем. Запахами отравлен. Три