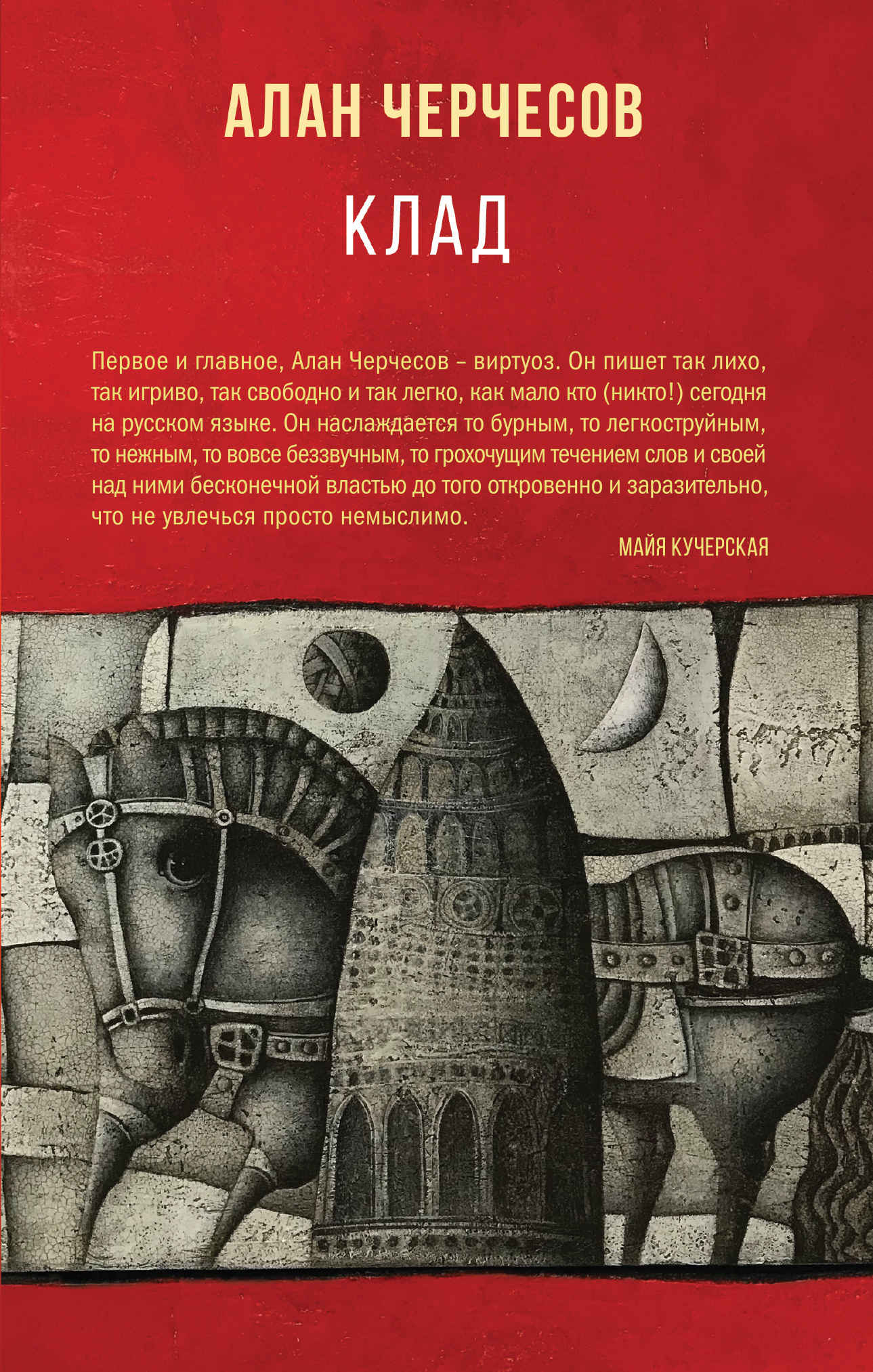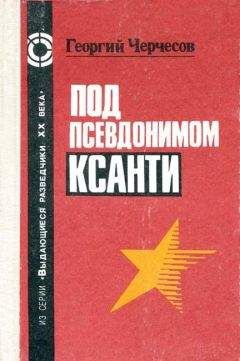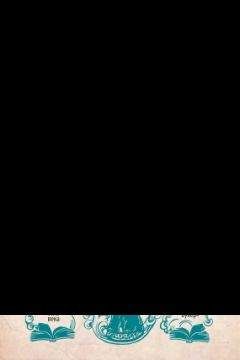всего: родной его, кабаний, второй – чужой, порохом пахнет и шкурой паленой. Он сильнее всех. От него и плохо становится. А как эти два почуешь, кажется, что и третий разбираешь – свой собственный. Знаешь, что так не бывает, а все равно. Тогда и жалость приходит, нехорошая, пустая. И вроде как стыдно. Видишь: твоя взяла, и теперь – только так, как задумал. Освежевать осталось. Но это не охота. Охота кончилась, когда курок спускал, тогда еще вместе решали. А после охоты – одна жалость. Видно, закон такой. От запаха это все.
Он крепко затянулся, мундштук в руке скользнул.
– Коня за бесценок отдал: торопился. По-моему вышло. Но разве лучше? Как понял, что вернется, больно стало, мокро там, – он ткнул пальцем в грудь. – Глядел на него, видел, что придет, и, ей-богу, молился, хотел уже, чтоб смог, чтоб получилось… Давно было, а с нами сидит. Как дождь, так вспомню. Да и без дождя… Я помню, он помнит – нет покоя. Люди памятью несчастливы. Потому и не рассказывали – ни он, ни я. Чужая память сладка не бывает. – Он ненадолго задумался. – Но и так не легче. Теперь вот проснусь – дух перевожу. Нехорошо это. Значит, скоро. Чувствую, надо уже… И только тебе, чтобы понял…
Он взглянул на внука. Глаза подернулись влажной пленкой, но посередке горели, словно взрезались, раскрылись. «Уже видел, – подумал Тимур. – Когда-то видел…»
– Отец хотел, но не смог. Захочешь ты – иди. Иди и никого не слушай. Лучше так, лучше, как я. Ему тяжелее. Сможешь – иди!.. Только потом не возвращайся. Вернешься – все с ног на голову перекрутится. Вот это-то самое трудное. Всегда назад тянет.
«Вспомнил», – подумал Тимур.
Велосипед сломался, и они шли по пыльной дороге семь километров, ему двенадцать, брату четыре. На спине тяжело, рядом он с колесом и мелкой цепью, молчит, ноги дрожат, но идет, черные руки на колесе, на локте кровь, и на колене тоже, пыль, как сумерки, и сумерки, как пыль, но уже гуще, и кукуруза, а края не видно, широко, высокая, над головой, только бы до ночи успеть, а то расплачется, не дойдет, еще много, очень много, а он, хитрец, даже не спросит: и так страшно, – и пыль, черные ноги в стоптанных сандалиях, кровь на локте и колене, самому тяжело, самому страшно, а тот идет, закусив губу, и молчит, и уже меньше, но еще так много, но главное – не говорить, тогда точно меньше, и вот идет, не выпуская колеса, не останавливаясь, как заведенный, и не смотрит, только вперед, такой дойдет, но очень уж маленький – всего четыре, а сумерки ближе, чернее пыли на ногах, и закат чернее спекшейся крови, наверное больно, конечно больно, но не плачет, а дома так всегда ревет, что же это такое? откуда в нем? и уже ночь, черным-черно, только край неба над черной стеной, синий край над кукурузой, а широко или нет – не видать, но широко, знает и помнит, и, наверное, тот тоже, но все не плачет, только дышит, очень слышно, и самого себя тоже, и цепь, и ноги шуршат по пыли, один бы не дошел, без него, без Руслана, ни за что не дошел, почему? потом, сейчас не понять, а пыль мягкая, как вода, сначала твердая, а теперь вот мягкая, но это хуже, и ноги мягкие, но мягче всех ночь, все мягкое, кроме железа на спине, колется, и идти в мягком тяжело, а он впереди и дышит, еще цепь, и его почти не видно, и дыхание твердое, хотя нет, не то, но совсем не то, что пыль или ночь, и твердый силуэт, и весь он твердый, теперь уж дойдет, не может не дойти, не вечно же! – очень уж громко! не видно, только слышно, слышать страшнее, чем видеть, слышать страшнее, чем видеть, потому что громко, но уже мало: слишком мягко, особенно ноги, а не дойти они не могут, поэтому и мало, и потом – сразу, как боль или радость, как звон разбитого стекла – свет, и голоса, и двор, и люди, и голоса, и свет, кричат, но ничего не слышно, дошли, уже стоят, шагать не нужно, и ничего не слышно – свет мешает, нельзя смотреть и слушать: нету сил, сейчас – смотреть, старик, женщина, две девчонки, мальчик, брат, братишка, на губе красное, кровь, была где-то еще, забыл, глаза, одни глаза, долго шел и пришел, очень долго шел, шел, шел и дошел, и этого столько, что поместилось лишь в глазах, больше бы нигде не уместилось, и там останется, и хватит до конца…
И вот теперь – дед…
А мать сказала что-то, сказала опять, потом повторила, но ничего не понять, потому что слишком громко и еще нужно смотреть, слез нету, но взгляд такой, что лучше бы были, а руки хуже взгляда, места не найдут, и вдруг – чах! – ударила, аж зубы цокнули, в щеке жарко, и сразу слышно, и сразу слезы, а он, Тимур, не плачет, и вовсе не странно, будто никогда до того не плакал или вмиг разучился, а тот все стоит, колесо в руках, и Ритка, старшая, никак не отнимет, слишком робко тянет, глаз боится, все боятся, кроме отца, потому что нигде нету, не видно, и слава богу, а Розка жмется к ограде, подальше от Руслана и матери, и коса в зубах, испугалась, реветь будет, а Баба старый и кривой, руки на палке, весь на палке, и челюсть дрожит, а тот все стоит и молчит – долго шел и дошел…
А ночью оба в одной комнате с чернеющим окном, и еще мать и старшая у кровати, с братовой стороны, а тот лежит и смотрит в потолок, руки на груди, будто по-прежнему с колесом, но на одной – ладонь матери, а на другой – сестры, шепчутся и тихо плачут, чуть ли не про себя, но голоса ровные, тугие, и черное за окном покойно греет, заволакивает, подплывает, словно толстый сон, и он, Тимур, закрывает глаза, потому что не спать больше не может, но через мгновение (всё шепчутся и плачут, а тот не спит и смотрит в потолок) вздрагивает, очнувшись: спать он не может тоже, и длинная свеча оплывает жиром, и волнует длинный огонек, и слышен запах табака сквозь длинные щели: Баба тоже не спит, и спит одна Розка, и, может быть, спит отец, если пришел, ведь ему ничего не сказали, ему