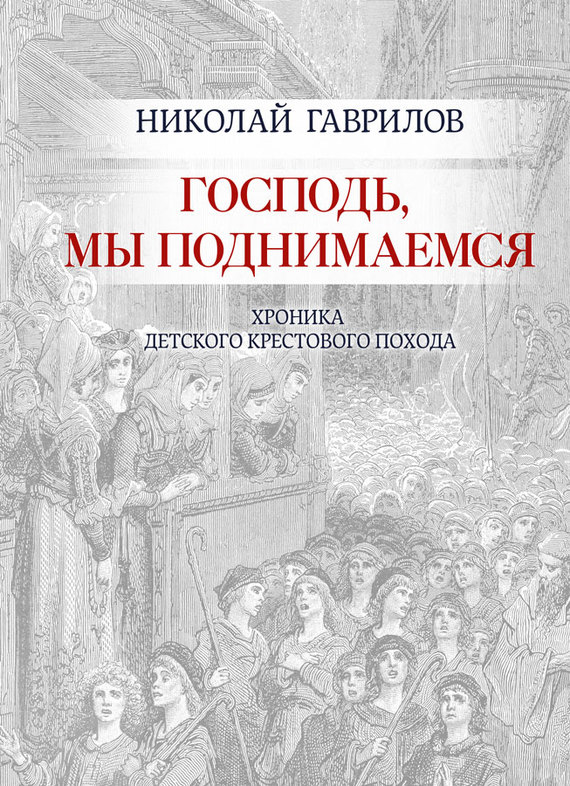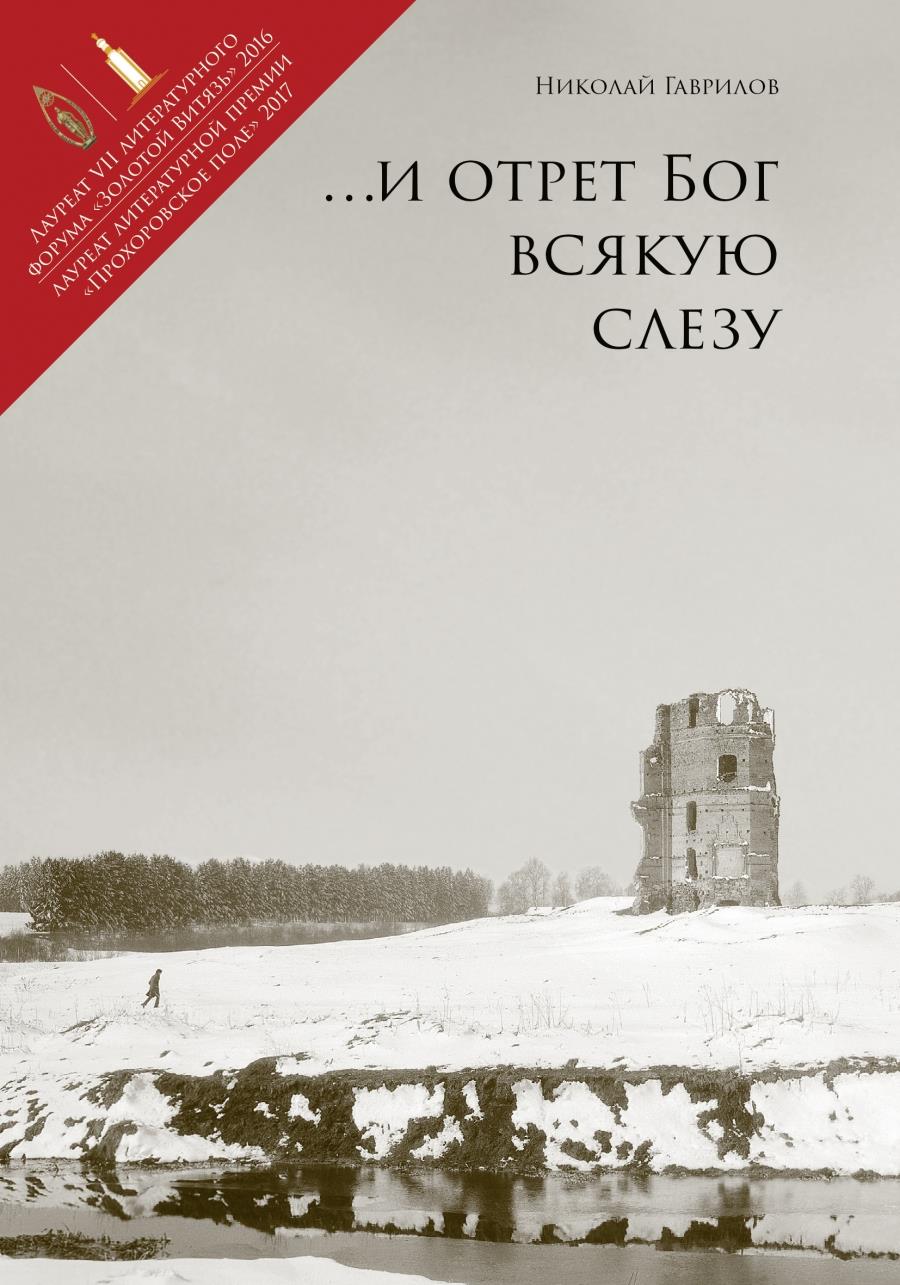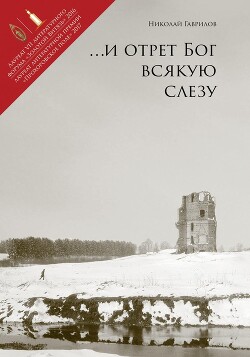на дрова сухие ветви кустарника, а затем, в один из вечеров, подошла к погонщику, который привёз её в лагерь. Подошла и спросила, где находится Алжир.
Погонщик развёл руками, показывая, что не понимает.
– Магриб. Аль-Джазаир, – мучительно вспоминая, как называли матросы Алжир по-арабски, повторила Мария.
– Аль-Джазаир, – протянул мужчина и махнул рукой куда-то на запад, выразительно скривив лицо, показывая, что земли Аль-Джазаира находятся далеко, бесконечно далеко: за грядами скалистых гор, за великой песчаной пустыней, в которую не углубляются даже бедуины, за тысячу миль отсюда, каждая из которых длиннее, чем жизнь.
Марии было нужно только направление. Весь остаток вечера девочка всматривалась в указанную сторону, запоминая линию горизонта, а ночью тихонько выбралась из шатра и, никем не остановленная, вышла за территорию лагеря.
Её поймали на рассвете, при первых лучах солнца. Она смогла отойти от оазиса не более чем на полмили. Луна была огромной, и звёзд рассыпано по всему чёрному небу, горизонт в серебряном свете просматривался хорошо, но что рядом, видно не было. Она заблудилась, ходила кругами по склонам ближайших барханов, спотыкалась и падала.
А когда на восходе солнца увидела невдалеке шатры и скачущих к ней мужчин на верблюдах, села на песок и закрыла ладонями лицо.
Её били кнутом, разложив в пыли в центре стана. Били безжалостно. При каждом ударе сердце останавливалось, крик вначале выходил беззвучным, давящимся, затем прорезался в вой. Наблюдая за наказанием беглой рабыни, старик-вождь одобрительно кивал головой. Непокорную лошадь надо стреножить.
Через два месяца Мария снова бежала. Дождалась, когда покрытые кровавой коркой раны на спине начнут затягиваться. За это время подготовилась, стараясь ничем себя не выдать. Припасла и всегда держала при себе небольшую тыквенную флягу с водой, складывала в узелок недоеденные куски пресных лепёшек. Оставалась замкнутой и целеустремленной, словно внутри сжималась пружина. Не позволяла себе ни мечтать, ни раскисать, ни плакать, гнала все не связанные с побегом мысли. Молилась про себя, не замечая, как дёргается от судороги щека.
Научилась замечать все мелочи – кто из мужчин позже всех уходит в свой шатёр, когда в стане гаснут последние костры. Брат её звал, она это чувствовала, и терпеливо ждала удобного момента.
Сбежала утром, на рассвете, когда собирала вместе с другими женщинами дрова вокруг стана. Собирая, зашла за бархан и увидела, что осталась вне поля зрения людей в лагере. Приготовленный узелок остался в шатре, но она о нём не вспомнила. Медленно, наклонившись, словно что-то ищет на песке, шаг за шагом всё дальше удалялась от остальных женщин, а затем, зайдя за дюну, бросила собранные дрова на землю и быстро пошла на запад, туда, куда уходит солнце, туда, где Алжир, стараясь уйти как можно дальше, пока её хватятся.
* * *
Тогда ветер тоже гнал по песку пыль. Глаза слезились. Иногда на горизонте показывались облака, но они не несли в себе надежду на дождь, растворялись и таяли в мареве солнца, едва проплыв по небу. Жёлтые волнистые барханы, сухие колючки, каменистые места, над которыми дрожал воздух.
Если бы Мария подольше прожила среди бедуинов, она бы знала, что нельзя, ни в коем случае нельзя передвигаться по пустыне днём. Идти можно только по вечерам, по ночам, на рассветах, а днём выбрать себе место, где хоть какая-то тень, и закапывать тело в песок, прикрыв лицо тряпкой. Лежать под песком неподвижно, чтобы предельно сократить расход влаги в организме. Что идти можно только по спрессованному, твёрдому песку в низинах между дюнами. Не пытаться залазить на барханы и ни в коем случае не идти вдоль русла высохшего ручья.
Если уж человеку приходится идти по пустыне днём, то ему надо полностью замотать тканью лицо. А Мария поступила наоборот. Раскалённый песок при каждом шаге обжигал босые ступни, в какой-то момент она села на землю, сняла с головы темную накидку, разорвала её на лоскуты, двумя кое-как замотала ноги, а третьей прикрыла волосы, оставляя лоб и щёки открытыми для солнца.
В пустыне не убегают от людей, в пустыне их, наоборот, ищут, какими бы они не были. Без людей, колодцев и воды пустыня может убить человека за несколько часов. Прихваченная с собой тыквенная фляга давным-давно осталась пустой, валялась выброшенная где-то на песке. Воздух дрожал над дюнами.
Невыносимо хотелось пить. Во рту не осталось и капельки слюны, зато слезились воспалённые глаза и тёк по шее и груди солёный пот, безвозвратно обезвоживая организм. Открытые для солнца щёки стали какими-то чужими, деревянными.
Она не знала, что в пустыне надо избегать каменистых мест. Ближе к вечеру увидела в одном из каньонов серое от пыли высохшее русло и пошла вдоль него, наивно полагая, что так идти ей будет легче.
Через десяток шагов она уже сидела на земле и плакала. Лоскуты на ногах не спасли, мелкие острые камни до мяса изрезали ступни, на раскалённой гальке остались мокрые кровавые следы. Ночь она провела возле гряды выступающих из песка скал. Не спала, тряслась от холода, всхлипывала, разговаривала с Матерью Божией, жалуясь ей на свою судьбу. Видела миллионы звёзд по всему небу от края до края. Звёзды казались такими близкими: протяни руку – и дотронешься. А перед рассветом случилось чудо: едва начало светлеть, как на камнях проступила роса. Она торопилась, слизывала её, потом поумнела, сняла с головы оставшийся от накидки лоскут и принялась протирать им каждый камень. Затем сосала чуть влажную материю.
Вставало красное солнце. При первых лучах роса испарилась, скалы вновь стали сухими. Порезы на ногах вызывали нестерпимую боль, ступни под тряпками опухли. Ей бы сдаться, остаться на месте и умереть, но она поднялась и, постанывая, побрела на запад.
Очевидно, у неё наступила последняя стадия обезвоживания: она бредила наяву. Пустыня оставалась пустыней, и в то же время она видела себя совсем в другом месте, в своей хижине во Франции. За стенами хижины шумел дождь, сколько хочешь дождя, надо было только выйти на крыльцо и подставить лицо холодным каплям, широко открыть пересохший рот, поднять руки, чувствуя, как по ним стекает вода, как промокшая одежда постепенно охлаждает горячее тело. Но выйти почему-то никак не получалось.
Ещё в туманный бред приходили купцы, Гуго Феррус и Гийом Поркус, в красных, обшитых беличьим мехом кафтанах, но там, в бреду, они были какими-то другими, добрыми, не смели продавать её и брата в рабство.
Одновременно она брела и брела на запад, но, может, ей только казалось, что она идёт, а на самом деле она уже