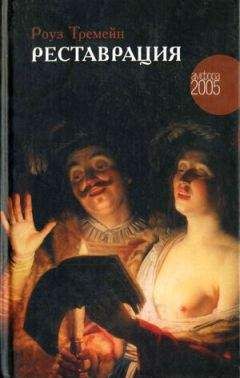Эдмунд сел, высморкался, и когда он доставал платок, его бумага упала на пол, и почему-то эта невольная утрата столь драгоценной для него вещи сблизила меня с ним больше всех его взволнованных слов; мне захотелось встать и попытаться ответить на его вопросы, хотя я не имел ни малейшего понятия, что тут можно сказать.
На несколько минут вновь воцарилось молчание, его нарушил Амброс, напомнивший Эдмунду, что Фокс призывал не доверять снам, учитель говорил: «Если вам не дано различать природу того или иного сна, вы обязательно запутаетесь». Некоторое время все живо обсуждали сны и пришли к выводу, что существуют три вида снов: один основывается на событиях прошедшего дня, другой нашептывает Сатана, и только третий представляет собой истинный диалог между Богом и человеком.
Так как меня все еще преследовали сны о прошлом — о Селии и, конечно, о короле, я задумался, к какому виду следует отнести эти сны, и, задумавшись, потерял нить дискуссии. Очнувшись от дум, я увидел, что разговор принял чрезвычайно эмоциональный характер: плакал не только Эдмунд, но и Ханна, а Элеонора, стоя на коленях, держала перед собой Библию и уверяла присутствующих, что открыть эту Книгу и означает войти в Божий Дом. Читая же Апостолов, уверяла она, ощущаешь дружескую руку, которая направляет тебя и предлагает духовную пищу, как мы «угощаем пирогом или супом навестившего нас Друга».
Когда Эдмунду напомнили, что он может вновь обрести посредством Священного Писания таинственным образом оставившего его Бога, он повеселел и немного успокоился. Я полагал, что Собрание на этом закончится, но тут Элеонора предложила, чтобы каждый из нас потратил пять-десять минут и нашел в «Евангелии» строки, дарующие ему особое утешение. Все стали листать свои Библии, а затем, усевшись полукругом, поочередно зачитали отрывки из Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Все квакеры, включая Эдмунда, выбрали отрывки, наиболее подходящие к случаю, те, в которых говорится, что Иисус особенно любит бедных и чистых сердцем: «Придите ко мне все, кому тяжело», «Будьте как дети» и так далее. Когда подошла моя очередь, я прочитал отрывок из второй главы Луки, где описывается смертельный ужас простых пастухов при виде ангела — посланца Бога: «Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим».
Не знаю, почему я выбрал эти слова, но, кажется, я знал их сердцем всю жизнь, и мне хотелось сказать Эдмунду, что Бог может не только утешить нас, но и напугать, заставить почувствовать себя одинокими. Этот страх, как в случае с пастухами, может предварять важное откровение, но это вовсе не обязательно. В моем случае это всего лишь страх перед страданием и смертью, и ничего не предваряет.
Пожелав всем Опекунам доброй ночи, я пошел к себе, зажег лампу и отправился с ней к Пирсу, чтобы мы располагали для работы двумя лампами вместо одной. Я захватил с собой также свой набор хирургических инструментов, тщательно, до блеска вычищенных и отполированных.
Пирс сидел на узкой койке.
— Держу пари, — сказал я, — что у тебя всего лишь летняя простуда.
— Нет, — возразил Пирс. — У меня были раньше простуды — ничего похожего.
— Ладно, давай смотреть…
Прижав ложечкой язык, я осмотрел горло Пирса, воспаления не было, но язык был обложенный, слегка опухший, дыхание зловонным. Я ощупал шею — никаких припухлостей. Затем, следуя за его рукой, я коснулся макушки, она была холодной; сквозь редеющие волосы я почувствовал влагу — как будто от пота.
Я попросил Пирса снять жилет, рубашку и лечь на кровать, чтобы я мог послушать его сердце и легкие.
Пока он раздевался, я сделал запись относительно странной влажности его головы, причина которой была мне не ясна. Потом поднял глаза.
Пирс стоял передо мной, скомкав рубашку, на нем оставались только мятые черные штаны и чулки. Последний раз я видел его обнаженным до пояса, когда дежурил у его постели в Оливковой Комнате Биднолда. Тогда он тоже был худой, но не более, чем в юные годы, сейчас же перемена была разительная — невозможно описать словами: предо мной стоял настоящий скелет — впалая грудь, выпирающие, обтянутые одной лишь кожей ребра, их можно было пересчитать.
— Пирс… — пробормотал я. Шок, пережитый от его вида, заставил меня забыть о настойчивой просьбе звать его Джоном.
— Да. Знаю. Я немного похудел, — сказал он.
— Ничего себе немного! — вырвалось у меня. — Что случилось? Ты что, постился?
— Нет, я съедал все, что мне давали. Не понимаю, как это произошло.
— Ложись! — рявкнул я.
Пирс покорно отложил скомканную одежду и лег навзничь на кровать. Я придвинул лампы как можно ближе и внимательно осмотрел друга. Не скрою, мне хотелось влепить ему хорошую пощечину за то, что он позволил своему телу, контуры которого плохо различались за мешковатой одеждой, до такой степени исхудать.
Держа его запястье, я прощупал пульс — к счастью, он был достаточно наполненный. Потом приложил голову к груди и вслушивался в сердцебиение.
— Нужно прослушать легкие, — сказал Пирс.
— Знаю, — сердито отозвался я. — Дыши глубоко и выдыхай как можно медленнее.
Вдохи были неровные — больше похожи на судороги, сопровождающие рыдание.
— Сделай еще вдох и медленно выдыхай, пока я не попрошу остановиться, — сказал я.
Несколько минут я внимательно слушал, меняя положение уха после каждого второго выдоха, потом попросил Пирса лечь на живот и приложил ухо к спине — самой запущенной части его тела, воспаленной от никогда не проходящих прыщей; то, что я услышал, испугало меня: я уже не сомневался, что легкие поражены, в них скопилось много слизи или мокроты, которые, если их не удалить, через некоторое время заполнят всю легочную ткань, и несчастный страдалец скончается в ужасных мучениях, похожих на смерть от медленного удушья.
— У меня закупорка легких? — спросил Пирс. Он сел на кровати, потирая глаза, — я только сейчас обратил внимание на их необычную красноту.
— Да, — ответил я.
— А что ты думаешь о поте и низкой температуре головы?
— Возможно, это благотворный процесс. Способ, при помощи которого болезнь пытается выйти.
— А если не получится?
— Мы заставим ее выйти, но ты должен лежать. Пирс.
— Джон.
— Пусть Джон! Но, знай, ты не будешь ни тем, ни другим, вообще никем, если позволишь себе умереть.
— Я не могу отлеживаться в постели — слишком много дел, Роберт.
— Ты должен, иначе лекарства, которые я тебе пропишу, не подействуют — только навредят.
— Это невозможно. Ни Амброс, ни остальные ничего не должны знать.
— Пирс, — сердито сказал я, — не заставляй меня терять терпение. Со времени нашего знакомства в Кембридже я сотни раз позволял тебе командовать мной, признавал твою мудрость и право поступать по твоему усмотрению. Разве не так? Но теперь даже не думай спорить! Эту единственную вещь, которую я от тебя требую, ты выполнишь, — будешь лежать в постели, позволять за тобой ухаживать и не выйдешь отсюда, пока совсем не выздоровеешь. Если ты этого не сделаешь, Джон, ты мне и остальным Опекунам больше не сможешь быть Другом. Ты умрешь!
Пирс откинулся на подушку и кивнул, соглашаясь.
— Хорошо, я буду лежать, но только недолго. Что ты пропишешь?
— Настойку розовых лепестков для разгорячения крови и смягчения кашля. Припарки из большого лопуха или теплого теста для головы.
— А для мокроты?
— Нашатырь.
— Как насчет бальзама?
— Обязательно испробуем несколько бальзамов, растворим их в кипятке и будешь делать с ними ингаляции.
— Хорошо. Значит, оно вернулось к тебе, Роберт?
— Что вернулось?
— Нужное знание в нужное время.
— Возможно.
— Так и должно быть. Ведь мы никогда толком не знаем, что нам известно и что доступно нашему пониманию.
— Думаю, ты прав, Джон, — сказал я. — А теперь сделай одолжение — надень ночную рубашку и ложись.
Прошли две недели; в течение этого времени я старался весь свой разум, всю силу воли полностью обратить на лечение Пирса. Но в то нее время я не мог игнорировать шумные просьбы пациентов из «Джорджа Фокса» и «Маргарет Фелл», которые, завидев меня, тут же начинали умолять, чтобы им вновь устроили танцы, — по их словам, ничто не помогало им так, как танцы; само их сумасшествие, говорили они, вызвано, в первую очередь, отсутствием музыки.
Я изложил суть проблемы перед Опекунами, но никакого решения в этот раз не приняли. Сомнений не было: тарантелла благотворно подействовала на тех, кому позволили участвовать в танцах; в тех же, кто остался сидеть, связанный, в бараке, музыка, аплодисменты, радостный визг вызвали приступы гнева и отчаяния, не проходившие много дней.
Кое-что предлагали. Так, Эдмунд заявил, что обитателей «УГ» можно связать между собой и отвести подальше по дороге на Эрлз-Брайд, куда не долетят звуки музыки. Ханна высказала другое мнение: дать больным снотворное. Но ни одно предложение не поддержали.