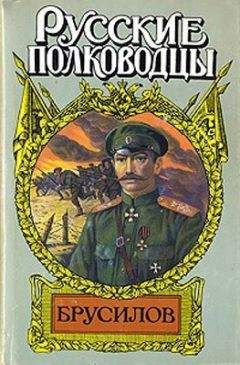— Ну вот… — обескураженно говорит Игорь. — Не надо так говорить, Любинька. Это нехорошее слово… оно давно уже утратило свое сословное значение, приобрело совсем другой смысл. Мещанка и Любинька — что общего?
Он глядит в ее живые глаза, полные блеска, ума, нежности и любопытства, и целует их — сначала правый глаз, потом левый. Восхищение и нежность, желание и удивление овладевают Игорем. Неужели это существо, это непостижимое маленькое создание принадлежит ему? Отныне на каждый легкий взмах ее ресниц его сердце тотчас же и неизменно откликается. Разве это не чудо? Как бы далеко их ни кинула судьба друг от друга, всегда ощущать на губах этот легкий трепет…
Нет, об этом не надо сейчас. Ничто, никогда их не разлучит.
— Ты читала «Тиля Уленшпигеля»[49]? — спрашивает он.
Он видит себя в вагоне после первой их встречи. Ведь это тогда! Еще тогда он подумал о ней так, как сейчас. Разве это не чудо? Едва знакомые, они ехали из Пскова в разные стороны и могли никогда больше не встретиться. И если уж та разлука не оторвала их друг от друга навсегда, то теперь…
— Да, читала, — отвечает Люба, припоминая, как и когда она читала эту книгу, и торопясь понять, зачем Игорь спрашивает ее об этом. — Папа выписывает «Ниву». «Тиля» присылали отдельными выпусками. Я читала его прошлой осенью в Вырице.
— А я в вагоне… и веточка сирени лежала между страниц… веточка, которую мне дала на память шальная девчонка, едва не опоздавшая на поезд…
— Ах, ты помнишь? До чего мы тогда испугались! — подхватывает Люба и всплескивает руками. — Кто бы мог подумать, что ты… и тот офицер…
— И тогда я прочел о том, — серьезно и медленно говорит Игорь, — как Сооткин поднимала свое лицо к Клаасу, а Клаас целовал это зеркало нежно любящей души и как они вдвоем забывали о своей великой усталости…
Он смолкает, крепко прижимая к себе жену. Она тоже молчит, чувствуя, как легкий холодок бежит по ее плечам и груди. Она боится шелохнуться, спугнуть эту минуту молчания. Как значительны стали эти слова из книги, прочитанные ею когда-то совсем равнодушно. О Игорь, мой любимый, мой муж…
И вдруг раздирающая душу печаль охватывает ее, сотрясает все тело. Он уедет! Он уедет на фронт… Ледяной вал несется на нее, она плотно-плотно закрывает глаза, старается спрятать голову на груди мужа, скорее-скорее услышать биение его сердца. Оно — ровно, уверенно. Это дает ей силы поднять голову и взглянуть на мужа.
Он сидит откинувшись на спинку дивана, глаза его тоже полузакрыты. Но в рассеянном свете неугасающей зари лицо его кажется спокойным, глубоко задумавшимся, тени — у глаз его и сомкнутых губ. Она невольно одним пальцем, мизинцем, трогает эти тени.
— Ты очень устал? — спрашивает она едва слышно.
— Устал? Нет! — отвечает он. — С чего ты взяла?
И, открыв глаза, видит, что ресницы ее влажны…
Нет, только не это!
Он сразу делается очень веселым. Он вскрикивает:
— Батюшки мои! А чайник наш снова кипит. Смотри, как он сердится! Терпение его лопнуло окончательно: или пейте чай, или дайте мне отдых! Ты прав, старина! Мы слишком залетели далеко и не замечаем, как прекрасно настоящее. Крепкий чай! Птифуры! Роскошное хозяйство! Помнишь, у Блока: «…в книгах — сказки, а в жизни — только проза есть!» И чудесная проза, доложу я тебе!
Он хлопочет, он пришлепнул огонь спиртовки, снял чайник, заваривает чай. Люба смотрит на него еще влажными глазами, концы губ еще вздрагивают, но в глазах уже улыбка.
— Нет! Это уж я, я! Дай мне. Я хозяйка!
И она разливает чай — ему в стакан, себе в саксонскую чашечку.
— Нет, — оживленно говорит Игорь, выкладывая из плетенки на тарелку птифуры, — я наклеветал на почтенного священника из Або! Он дал мне замечательную хозяйку! И почти даром! Вы посмотрите, как она разливает чай! Ей мало чашки и стакана, она хочет залить всю скатерть!
Люба вскрикивает. Она не заметила, что у нее дрожит рука, вода пролилась на плюшевую скатерть… И вот Люба уже смеется. Игорь добился своего: она смеется!
— А ты все-таки так и не объяснил мне, почему нам надо было венчаться в Або? — спрашивает Люба, когда все птифуры съедены.
— Вот те раз! Разве я тебе не говорил, что нельзя, чтобы в послужном списке было указано, что я женат. Если бы не война — другое дело! Я бы просто вышел в отставку — и все тут или перевелся в армейский полк… но выходить из полка во время войны…
— Нет! Этого нельзя! — горячо подхватывает Люба.
— Ну вот: значит, надо было найти такого священника, который бы обвенчал только по метрике… Олег это все устроил у себя в Або.
— А ты бы совсем не женился! — поддразнивает его Люба. — Подумаешь, какая невидаль: ученица театральной школы!
— Она бы умерла от горя!
— И не подумала бы! Вот еще!
Люба встряхивает кудряшками. Игорь любуется ею. Но она снова в чудесных воспоминаниях.
— Ах, как все было удивительно в этой поездке! Помнишь? И поезд, и крохотное купе, и то, что платье вывешивают в коридоре для чистки… Мы с Машей все не могли заснуть, все заглядывали за занавеску в окно. Потом Або, деревянная маленькая гостиница, такая чистая, точно тарелка перед обедом, с половичками повсюду, пахнет кофием, и этот «секст» — полный стол закусок! Ешь — не хочу, а цена одна… А море! А тральщик Олега… его каютка, крохотная, как этот диван, и коньяк «Бисквит», которым он угощал, и открытка! Представь себе: та самая открытка с сестрорецким видом и купальнями, где мы купались. Ты помнишь, я о ней тебе рассказывала? Потом маленькая морская церковь, стриженый священник, загорелый, в пенсне! Подумать только, совсем интеллигент, нисколько не похожий на наших, с волосами… В пять минут все было готово! В пять минут мы стали мужем и женой! Прямо нельзя поверить… Потом поездка в Гельсингфорс, вдвоем, без Маши. Мне почему-то очень грустно было расставаться с ней… точно навек… А на сладкое в салон-вагоне — чернослив со сливками! Помнишь?
— Очень вкусно, — говорит Игорь.
— Еще бы!
Игорь помнит это состояние тумана и счастья, на губах солоно и свежо от моря, и всюду они под руку, как жена и муж, но даже страшно подумать, что они могут стать настоящими женой и мужем.
— И ты, знаешь, ты был со мною, как с больной…
— С больной? Какие глупости!
— Правда. Такой внимательный… точно я вот-вот упаду… и глаза у тебя были как стекла, когда их вымоют и они запотеют…
— Какие глупости!
— Нет, правда…
Они долго смотрят друг на друга.
— Мне ужасно понравился тот маленький ресторанчик, где мы обедали, — говорит торопливо Люба. — Все стены, как в вагоне, отделаны полированным красным деревом, и кельнерша… Помнишь? Высокая шведка, очень молодая, с прозрачными морскими глазами и прозрачным розовым лицом. Правда?
Но Игорь плохо слышит. Он кивает головой, а глаза его все такие же темные, налитые густым медом, пугающие, как тогда…
— И замок далеко за городом — огромный, серый, и в нем картины… — завороженно, борясь с собою, продолжает Люба. — Картины с викингами, героями «Калевалы»[50], с седыми скалами, с прозрачным, сизым небом…
Голос ее все тише и внезапно звенит беспомощно:
— Что ты так смотришь?
Ее руки в его руках, они совсем обессилели, они покорно скользят по скатерти, когда он одним движением притягивает их, закидывает себе на плечи и целует ее в губы.
— Люба!.. Любушка… Любинька моя!
Губы ее полуоткрыты беспомощно и покорно, глаза полны до краев прозрачной влагой.
— Любинька! Что с тобой?
Она не всхлипывает, лицо ее не искажено страданием, оно неподвижно, как у спящего человека, но горе, горькое горе в каждой черточке родимого лица, никогда еще не глядевшего так.
— Люба! Счастье! — потерянно вскрикивает Игорь и знает, что ничем утешить не может, что нет слов у него в утешение. Самая сладкая минута обернулась самой горькой. Память о первом дне открыла глаза на час последний — час разлуки… Чем могут помочь слова?
Игорь сам потрясен до дна души. Мужество готово покинуть его. Он напрягает всю свою волю, он призывает на помощь разум. Но разум и воля бессильны перед правдой горя. Он это знает. Война научила его — страх смерти побеждается только верой в жизнь. Не убеждать, а пробудить веру.
Он поступает по наитию, не размышляя, движимый только одним: преодолеть горе, как преодолевают пламя — пройдя сквозь него. Он говорит с бодрой уверенностью, какую усвоил на фронте:
— Идем к окну. Здесь душно. Посмотри, как хорошо!
Она покорно следует за ним, он обхватил одной рукой ее плечи, другою шире распахивает створку окна.
На них глядит белая ночь. Рассеянный неуловимый свет то разгорается, то притухает. В его мигающем сиянии, в неуловимой игре красок — голубых, розовых, изумрудных отсветах — город кажется легким, призрачным, вот-вот готовым растаять как туман.