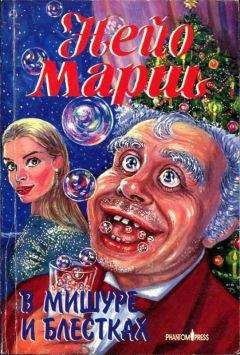— Поясни, — удивился фельдмаршал.
— Зачем царь из темных людей, да прытких, понаделал бояр?.. Ну, вот с этого примера и меня одурь обуяла… И я захотел в бояре выйти, чуя в себе тоже разум и прыть.
— Бунтом?.. Противством царю и его властям? Да ты бы в Москву или Питербурх пришел да показал бы нам в свейской войне свою прыть…
— Я и был…
— Был?!
— Был. У Меншикова был… В ногах валялся… Просил слезно: «Возьми меня к себе. Я тебе себя докажу»… Он меня лежачего ударил ногой, выругал и прогнал… Я ушел, омертвев сердцем, и поклялся, что услышит Сашка об Якове Носове… Ну, вот теперь уж он, поди, слышал.
— Почему же? это тебя обидело?..
— Довольно, боярин, боле ни слова не отвечу.
Наступило молчание и продолжалось несколько мгновений.
Шереметев сидел задумчивый.
— Ну, ступай… — вымолвил он наконец. — Я не велю тебя допрашивать в судной избе. Зря замучают… Повезут тебя на Москву… Там тебя сам великий царь допросит. Ты ему вот то же и скажи.
— Спасибо тебе, боярин. Это слово меня оживило, — выговорил Грох и снова засверкал его тусклый за мгновенье взгляд.
На другой день утром, при первом ударе на соборной колокольне, Шереметев со свитой двинулся в собор к литургии и молебствию о здравии государя царя.
Полки собрались и торжественно выстроились на площади перед папертью собора, куда вошли лишь именитые обыватели. После молебствия при колокольном звоне и пальбе из пушек было объявлено прощение его царского величества всем повинившимся и сдавшим город без упорства и напрасной траты людей в братоубийственном бое.
Но затем фельдмаршал отдал приказ, чтобы главных зачинщиков всей смуты, вовремя не повинившихся на увещательные грамоты, самозванных властителей: посадского Носова, донского казака Зиновьева и стрельца Быкова, закованных в кандалы, заключить без суда и допроса в башню под надежным караулом. Кроме них, еще 273 человека были отобраны и посажены в яму под судной избой. Впредь до отсылки всех в Москву на суд и расправу царя, указано было колодников-бунтарей не обижать и, крепко карауля, хорошо кормить.
Был май месяц.
От прошлого бунта уже не оставалось и следа, когда однажды в доме богатого ватажника Барчукова был праздник, было людно и шел пир горой.
Ватажник праздновал крестины новорожденного, нарекаемого Борисом, в честь его высокорожденного и именитого восприемника от купели.
Крестный отец сам явился в дом ватажника, своего старого знакомого еще по Кичибурскому хутору, где когда-то по пути в бунтующую Астрахань он останавливался и ночевал.
Фельдмаршал явился с блестящей свитой молодцов офицеров из московских полков, но в числе их был один офицер не московец, а давно и хорошо знакомый астраханцам да к тому же и приятель хозяина, ватажника Барчукова. Это был астраханец, лишь недавно зачисленный в полк и надевший новый мундир.
Немало таращили на него глаза и разевали рты все астраханцы — и православные, и инородцы.
— Вот что значит прыткий малый: «знатным» человеком стал! — говорили одни.
— Вот что значит власть фельдмаршальская: человека из буяна-пропойцы сделал! — говорили другие.
— Да ведь он и бунтовал не хуже других! — удивляясь, вспоминали одни.
— За то, слышь, он же изловчился город сдать с повинной без смертоубийства царевых полков! — замечали другие.
— Вот за то он теперь и офицерское, и родовое звание свое приобрел.
Этот офицер был князь Лукьян Лукьянович Дондук-Такиев, по документу, выданному ему от самого фельдмаршала, в награду за «государскую» услугу.
После торжественных и богатых крестин долго длилось пирование и угощение всяческое. Затем Шереметев со свитой уехал, а за ним pазъехались и разошлись все гости, вспоминая многое из недавнего прошлого… Поминали Ржевского и Пожарского, Палаузова и Кисельникова, Носова и Шелудяка, Партанова и князя Дондук-Такиева, Ананьева и Барчукова. Кто-то помянул и Сковородиху, и все засмеялись при этом, потому что стрельчиха успела сойти с ума от перепуга, едва не сгорев во сне вместе с домом, во время пожара слобод.
Сковородиха уверяла, что проглотила красного петуха и что он кричит на заре у нее в животе без умолку, да еще за курами гоняется и всякие свои петушьи обстоятельства справляет! Просто смерть, до чего беспокойно!
Только о двух жертвах пережитой недавней смуты никто не вспоминал, ибо никто не знал ничего…
Душегуб Шелудяк, еще накануне казни своей за грабеж молельни юртовской, забрался в дом одного зажиточного обывателя ради грабежа и убил сопротивлявшихся хозяев — мужа и жену… Их нашли мертвыми, но не знали, однако, кто их убил и за что… И, недоумевая об их судьбе, их похоронили и забыли… Поэтому и теперь никто их не вспоминал, перечисляя жертвы или героев прошлого «смущения и колебания умов».
Эти погибшие были князь и княгиня Бодукчеевы, Затыл Иваныч и Марья Еремеевна, старшая дочь Сковородихи.
Когда в доме ватажника Барчукова опустело и стихло, к нему снова вернулся один офицер и его близкий приятель «допировывать», но уже явился вместе с красавицей женой. И гости вместе с хозяином отправились в комнату роженицы поцеловаться и побеседовать с ней.
Два приятеля занялись донским вином и пирогом. А две приятельницы, Варюша Барчукова и княгиня Дарья Дондук-Такиева, занялись новорожденным. Одна немного завидовала другой, но, собираясь в дальний путь за мужем, на Москву, не жалела, что у нее пока еще нет махонького князя.
Мужья толковали о своих делах, вспоминали тоже и пережитое…
— Меньше году. А сколько воды утекло! Страсть!
Ватажник просил приятеля не забывать его на Москве, говоря, что век будет помнить его услугу, даже, вернее сказать, благодеяние.
— Не будь твоего финта, не быть бы мне ватажником и мужем Варюши!
— Да, не будь финта, не быть бы и бунту, — отвечал князь Дондук-Такиев. — Не иметь бы тоже мне и моего звания княжеского.
— Да, приятель, верно! — отозвался Барчуков. — Скажу я тебе по сущей правде, что коли твой оный финт не плох был, то это колено, поди, еще хитрее.
— Какое колено? — добродушно удивился офицер.
— А из учинителей всего бунта влететь не в колодку, а в княжество!.. Нешто плохо!..
Офицер рассмеялся.
— Стало, по-твоему выходит, — сказал он, — что от финта — бунт, а от бунта — паки финт!! Погоди, до царя вот дойду, да спознает он меня, — может, еще и не такое диковинное со мной соделается. Он умников любит. Чем я хуже Меньшикова? Он из простых людей, а я из кайсацких князей. Вот и буду, гляди, боярином русским, богатым и именитым.
Чапур, чапура, чепур — название цапли в местном говоре. В тексте, скорее всего, речь о рыжей цапле, Ardea purpurea (прим. верстальщика).
Учуг (забойка) — средневековое сооружение для ловли красной рыбы, т. е. осетровых: частоколы в русле реки, направлявшие ход рыбы в узкий сруб с одним входом, откуда рыба не могла выйти и где ее забивали баграми. При учугах ставили жилые избы, сараи для вспомогательных рыбопромысловых служб (коптилен, соляных складов и т. д.) (прим. верстальщика).
С этого места в печатной публикации идет ошибка в нумерации глав (прим. верстальщика).
Гребенские казаки жили в предгорьях Северного Кавказа, на реках Сунже и Тереке, изначально поселившись в урочище Гребни на реке Акташ. К началу XVIII века гребенские казаки ушли из гор на равнину за нижний Терек, а также на западный берег Ахтубы (дельта Волги) севернее Астрахани, где их жительство отмечено на карте 1706 г. В 1732 г. гребенские казаки с Ахтубы причислены к Царицынской линии Волжского казачьего войска (прим. верстальщика).
Черный Яр — село (до 1810 г. — крепость) на правом берегу Волги на 250 км севернее Астрахани (прим. верстальщика).