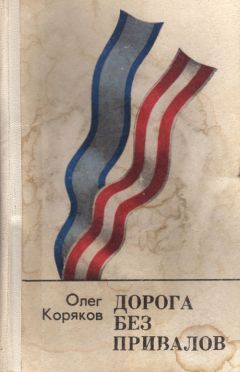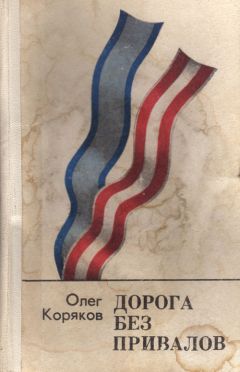Со Степаном, расстрелянным по решению трибунала, она не простилась, только короткую весточку-записку получила.
«Кланяюсь. Простите. Скажите Парасе, пусть постарается детям образование дать».
Она плакала над этой записочкой и еще не знала, что будет плакать над ней многие годы, держала на вытянутых руках — чтобы слезы не размыли буквы, написанные химическим карандашом.
Приняла непростое решение — пусть увозят Фроловы Васятку, коль отцовская воля, коль он образование превыше всего ставит.
Однако когда вернулась после больницы в колхоз и оказалось, что Фроловы уже уехали вместе с Васяткой, затряслась от гнева — не дали с большаком проститься, слов напутственных сказать. Она сама бы им сыночка вручила, зачем же увозом?
Фроловы оставили записку. Жизнь начиналась какая— то… записочная.
«Прасковья Порфирьевна!
Ваше молчание мы вынуждены расценивать как согласие. Будьте уверены, что Василий получит все лучшее, что мы сможем дать. Он будет воспитываться с безусловным знанием того, каким выдающимся человеком был его отец и какой самоотверженной — мать. С учетом того, конечно, что детская психика может перенести в каждый определенный возрастной период. Мы сообщим Вам адрес своего нахождения для поддержания дальнейшей связи».
Последнего обещания Фроловы не сдержали.
Мария-кормилица принесла Аннушку — веселенькую, розовую, здоровую.
— Шибче, чем за своим, смотрела, Парася.
— Я верю. — Парася встала и поклонилась в пояс. — До последнего своего смертного часа буду тебя в молитвах благодарить.
— Дык поживем ишшо. Сама-то как?
— Смотри! — Парая расстегнула блузку и показала груди, исполосованные красными молниями рубцов.
— Ох, ё! — захлопнула ладошками рот Мария и закачала головой. — Дык как же?.. Дык что же?..
— На прикорм коровьим молоком Аннушку переведу. Но быстро нельзя. Василий Кузьмич говорил — постепенно. Ышшо покормишь?
— Да я ж! Да что ж! Дык она мене молочная дочка!
— Покрестим ее?
— Кода?
— Сейчас. Ты и будешь крестной матерью.
— Дык без попа нельзя!
— Можно! Если христианские матери хотят новорожденную в лоно нашей церкви ввести, то им позволено. Мне отец Серафим рассказывал, что в войнах христиане сами крестили детей, молитвы читали. Я молитву знаю, Марфушка научила.
— А чем сичас не война? — спросила сама себя Мария. — Лохань принесу. Есть у меня сподобная, за купель сойдет.
И бросилась из дома.
Ночью Парася спала с Егоршей. Прижимала его к себе, точно хотела чуток отцовской силы-крови впитать, которой в Егорше имелось взахлеб. Степан говорил, что Егорша — вылитый он сам в детстве. И еще грозил заняться Егоршиным воспитанием. Грозился, грозился, да не выполнил…
Егорша брыкался. На материнские объятия, сонный, лягался — привык один, вольно, спать.
Восьмилетний Егор по росту на голову обгонял сверстников. Длинношшепа — костяк, обтянутый почти незаметными бугорками мышц. Вредина — учиться, как старший брат, не желает. Но верховодит! Где какая проказа, там Егор Медведев верховодит!
Парася уехала из колхоза, когда Аннушка полностью перешла на коровье молоко. Не было сил смотреть, как дело жизни Степана пытаются возродить из пепла, как ссорятся еще вчера закадычные друзья, как без контроля Андрея Константиновича рассыпается учет труда… Колхоз, конечно, выживет. Есть Неубийбатько и два десятка крепких, сметливых мужиков. Перетрется, перессорится, весна придет — не до горлопанства станет. И бабы свою активность пригасят, когда над завоеванным укладом, «уровнем жизни», как говорил Андрей Константинович, нависнет угроза. Опять-таки тракторы и комбайны — сейчас значительно легче обрабатывать землю… Но Парася этого видеть не хочет — «Светлый путь» без Степана, ее светлый путь закончился. Дальше — неведомо какой, но точно — тяжелый, детей поднять.
Парася переехала в свой старый дом, к матери.
Александр Павлович Камышин, когда приехала бледнолицая Парася, невестка Марфы, сообщила об аресте мужа, понял, кто его главный соперник. Человек по имени Степан. Марфа не вздрогнула, не вспыхнула, не замельтешила глазами. Она на секунду застыла. Камышин стоял так, что увидел глаза Марфы — бездонные, пустые, только где-то в необозримой глубине плещется страсть. Перебродившая, в кислый уксус не превратившаяся, а застывшая озерком густого сиропа.
Через секунду Марфа повернулась к Парасе и обняла ее с сердечностью и любовью, в которых сомневаться не приходилось. Марфа никогда не снисходила до притворства. Эта чертова баба никогда не притворялась! С ним спала, а обожала его жену!
Камышин в квартирке Медведевых оказался случайно. Если принять за случайность его периодические попытки сломать Марфу.
Потом они, две сибирячки, развернулись к нему. Так уже было: Марфа и эта… как ее… Нюраня. Но тогда пред ним стояли две богини: высокие, мощные — умопомрачительные. Помрачился ум, а иные части тела восстали.
Теперь же была одна богиня — конечно, Марфа, обнимавшая ласково за плечо женщину хрупкую, прозрачно-бледную… У Камышина жена была того же типа — знаем, проходили, хлебнули. Но эта вторая, низкая, бестелесная, смотрела с выражением, которого никогда не было у Елены — с добром и требовательностью, с надеждой и прощением твоего неоправдания надежд.
Камышин слышал о председателе колхоза, который расстрелял Сороку. Сороку этого давно следовало придушить. От безрассудного поступка мужика (теперь оказавшегося любовной страстью Марфы) всем стало только легче.
— Дамы! — Камышин глубоко вдохнул и выдохнул. — Чего вы от меня хотите?
Они хотели свидания. Марфа не хлопотала о личном свидании со Степаном — она за Парасю просила.
Устроить это было совершенно невозможно. Единственное, чего добился Камышин, сильно рискуя, — это краткой записки от Степана Медведева, вероятно, написанной за несколько минут до расстрела.
Камышин прочел послание, не удержался. Кратко, разумно — наверное, этот мужик был достойным любви Марфы.
Этой крестьянской дуры, умопомрачительной женщины, холодной и желанной, покорной и строптивой, равнодушной к его сердечной боли и при этом считающей по парам калоши гостей!
При катаклизмах лучшую выживаемость демонстрируют не высшие слои общества и не низшие. Первые не умеют самостоятельно запонки в манжетах рубашки закрепить, вторые не знают ничего иного, кроме тупого календарного тяжелого труда. Выживает средний класс — разночинцы. Им понятны низшие, а рвутся они, еще не прибились, к высшим. Разночинцы умны, образованны, у них есть идеалы. Они не боятся, а любят работать, они изворотливы, хорошо обучаемы и копят жизненный опыт с той же тщательностью, с которой художественный музей отбирает полотна для коллекции.
Камышин, как и Фролов, чутко понял — надо бежать. Но Фролов рванул в Среднюю Азию, а Камышину хотелось в Ленинград — город его юности, промышленный центр. Провинция осточертела Камышину, как и его жене, отчаянно. Елена Григорьевна была далека от политики, но из ее окружения едва ли не каждую неделю пропадали люди — поэты, художники, журналисты, артисты. Она плохо спала и говорила мужу, что слышит запах недобрых перемен.
Александр Павлович написал письмо брату с просьбой подыскать инженерную вакансию на одном из ленинградских предприятий — такую, что предусматривает выделение жилья. Упомянул, что, кроме жены и дочери, с ним отправится домработница с мужем и двумя детьми. Брат верно прочитал между строк тревогу Александра Павловича и обещал похлопотать. Но тащить через всю страну семью домработницы, писал он, — бред и блажь. Ответное письмо Камышина состояло из одного предложения: «Она родила мне сына, и я их не брошу».
Когда Камышину пришел вызов из Ленинграда, Марфа ехать с ним решительно отказалась — ее пугали Расея и большой шумный город.
Неожиданно на помощь пришла Елена, присутствовавшая при разговоре. Она заломила руки:
— Ах, Марфинька! Как же я без вас? Я пропаду! И еще вспомните, что писал из тюрьмы ваш родственник. Он завещал жене дать детям образование. Разве это напутствие не справедливо по отношению к Митяю и Степушке? О каком образовании может идти речь, если вы вернетесь в деревню?
— Твой муж, — подхватил Александр Павлович, — родной брат заговорщика, врага народа. Вашу семью прошерстят так, что косточек под сосеночками не соберете!
— Петроград, то есть Ленинград — прекрасный город! — продолжала уговаривать Елена Григорьевна. — Там столько интересного! Такие возможности!
— Мне возможности без надобности, — горько вздохнула смирившаяся Марфа. — А вот сынкам… Когда вещи собирать? Вы уж сразу покажите, что возьмем. Остальное, может, продать успею…