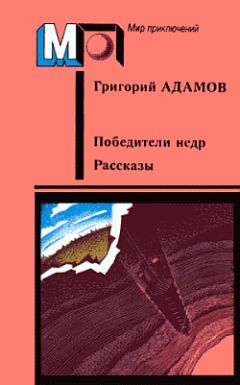71
Своим чередом подошла зима. Тёплые, сыроватые, но слепящие снега ноября в одну ночь накрыли Иркутск и округу. Утром Елена прильнула к окну и ей показалось, что уютнее и надёжнее места во всём белом свете не может быть. Огромное высокое небо было охвачено голубым пламенем, хотя солнце ещё только готовилось взойти из-за домов. Вдали переливалось яркими тонами изумрудное ожерелье Ангары. Немецкая кирпичная кирха, плотно прикрытая со всех сторон деревьями, чудилось, что вместе с ними и утонула в этих роскошных снегах, только остроконечная башенка с крестом красно как будто протестовала зачем-то этому напору новой блистающей белой жизни. Лобастый купол Русско-Азиатского банка так выбелился снегом, что походил на седого бородатого старика, — не Деда ли Мороза? — улыбнулась Елена, как маленькая девочка, ожидающая чуда, сказочного сюжета. Повозки и экипажи на перекрестье Большой и Амурской весело, озорно заносило, и лошади вздыбливались, ржали, а кучера, матюгаясь и размахивая вожжами и кнутовищами, чуть не на карачках вылезали из сугробов; а выбравшись — порой снова валились в снег, тонули в нём. «Я никуда отсюда не поеду. Это моя земля, и она прекрасна», — подумала, сладко потянувшись, Елена. Её плеча коснулся Виссарион, и она отчего-то испуганно вздрогнула.
Декабрь отстоял влажноватым, оттепельным, и представлялось, что вот-вот разойдётся весна, нахлынут монгольские конницы южных ветров. Только ночами загустевали морозы, куржавя деревья и набрасывая на окна нежное кружево изморози.
Многоопытная, ловко заметающая следы Любовь Евстафьевна два раза тайком привозила к Елене в «Central» сына. Виссарион смущённо улыбался ни разу прямо не взглянувшей на него Любови Евстафьевне, мял свои тонкие белые пальцы, неясно и коротко смотрел на мальчика и как-то незаметно удалялся из номера. Елена тоже как будто забывала о Виссарионе, и он, когда уже выходил в двери, оборачивался к своей возлюбленной, покашливал в кулак, — но Елена не понимала. Она всецело была занята Ванечкой — сбрасывала с него верхние одежды, нетерпеливо развязывая крепкие бабушкины узлы, целовала румяные щёчки. По-бабьи чего-то охает, вздыхает, а то и всплакнёт. Всё приметит — царапинку на ухе, высохшую на окологлазье слезу, дырочку на рубашке. Любовь Евстафьевна, горделиво, заносчиво отказываясь раздеться, придирчиво озиралась, качала маленькой, плотно укутанной шалью головой, щурилась на дорогие картины, золотистые обои, изысканных форм канделябры и другую утварь богатой залы:
— Ишь живут… аристант…краты… али как вас тута?
О Виссарионе она никогда с Еленой не заводила речь, будто его и не было на белом свете.
Виссарион возвращался поздно, и он и Елена не могли найти тему для разговора. Какое-то тяжёлое чувство разъединяло их души.
— Ты меня ревнуешь? — спросила Елена после второй встречи с сыном у Виссариона, принаклонив на его плечо голову. Он слегка отвёл своё плечо, так что Елене стало неудобно, и она подняла голову. Странно покраснел — в глазах влажно вспыхнуло. — Глупенький, — погладила она его по голове. — Я тебя люблю… а сын… сын… — Но она замолчала, не отваживаясь произнести что-то очень важное для себя. Смотрела за окно — по улицам пуржило, раскачивало ветви тополей и сосен, на кирхе метался «язык» колокола, какие-то мужики ловили его и пытались привязать к ограждению. Отвела глаза от окна, вздохнула, и всё же сказала: — А сын — это от Бога. От Бога, Вися.
— Не называй меня Висей — противно… Что, от бога, которого нет? — недобро отозвался он, бесцельно разминая пальцами сигарету.
— Но сын-то есть, и это навсегда со мной, — не сразу откликнулась Елена.
— Да, да, конечно, дорогая, — торопливо произнёс он и сомкнул её губы холодным крепким поцелуем, как будто не желая, чтобы она ещё что-то сказала.
— Я боюсь тебя потерять, — всё же успела сказать она, задыхаясь в его объятиях и отвечая на поцелуи.
Её напугал этот резкий и, показалось ей, неуважительный тон со стороны возлюбленного, и она непредумышленно на несколько дней замкнулась в себе. Она ничего определённого не обдумывала, ни на что не отваживалась, но страх, что она в силу каких-то обстоятельств внезапно может потерять из своей жизни Виссариона, неотвязно преследовал её.
Об отъезде всё же договорились окончательно и бесповоротно — сразу после новогодних праздников. Бабушка сулилась ещё разок на Крещенье завести в гостиницу Ваню, а потом, уточнила, получится ли: Семён, кажется, совсем перебирается в город, и будет ли давать сына — почём знать. Покинут Иркутск и первым делом — к этому докучливому грузинскому деду заглянут; уже и телеграфировали ему. Деньги на исходе, а он всё же обещался помочь, завещать капиталы своему единственному внуку. А потом — Петроград, Москва, интересная, насыщенная свершениями жизнь, — рисовал будущность Виссарион, и Елена невольно покорялась его страстности и устремлённости. Однако холодок в отношениях установился. Оба ощущали его, но не хотели признаться в этом друг другу. Понимали: необходимо что-то бесповоротно менять в своей жизни.
Она не хотела, но он вытащил её на новогодний бал-маскарад в Общественное собрание: желал устроить для любимой роскошный весёлый праздник и как бы распроститься, наконец-то, с Иркутском, Сибирью — этой необыкновенной землёй, на которой он умирал и воскрешался, которую любил и ненавидел. Он надеялся, что навсегда её покидает, а потому и расстаться надо как-то широко, с ликованием — ведь выжил, сохранил здравость ума!
Елене было сшито самой востребованной, дорогой модисткой мадам Долинской с европейски блистательной и многоликой Пестеревской улицы великолепное платье, призванное затмить — втайне надеялся Виссарион — публику. Оно было из белоснежной, тончайшего узора тюли, с неисчислимым ворохом оборочек, выточек. Елена примерила, и ей показалось, что она вошла в облако или сама стала облаком, которое вот-вот подхватит ветер и унесёт неведомо куда. Она словно бы выплыла из примерочной в залу к Виссариону, раскружилась:
— Держи меня — улечу! Не поймаешь потом!
И он, очарованный, легко и бережно подхватил её на руки и кружил, кружил по зале, забывая, что рядом строгая сухопарая мадам Долинская с позолоченной лорнеткой у надменных рысьих глаз.
К Общественному собранию они подъехали в чёрной сверкающей карете с позументами, хотя пешком было пройти от «Central» всего ничего — саженей сто пятьдесят. Но коли затмевать иркутского обывателя, так затмевать с размахом, — рассудил в себе князь Виссарион, с некоторой досадой отмечая, что всё же аристократические замашки крепко сидят в его крови, как не пытался он освободиться от них в юности, да и ссылка не выхолодила, не вытравила их, оказывается.
В фойе люди сразу обратили внимание на молодую блестящую пару — на этого эффектного, со многими раскланивающегося грузинского князя и красавицу Елену, которую просто пожирали глазами. Но смотрели не столько на её длиннополую соболью шубу, на её муфту с горностаевой оторочкой, на её узорчатую, деревенского фасона шаль, а на её прекрасное, но замкнутое лицо, на еле приметную улыбку узких, слегка подведённых розоватой помадой губ. Люди всматривались в её глаза — глубокие, затаённые, и было непонятно: печальны они или улыбчивы, строги или ласковы. Словно бы она безмолвно говорила всем: «Я не выдам вам своей души. Вот видите меня? И довольно: более вы ничего не узнаете обо мне». Ни на кого не взглянула Елена, только на два парадных огромных портрета, которые величаво висели в фойе, — почитаемых иркутянами генерал-губернаторов Восточной Сибири Муравьёва-Амурского и Синельникова. В сердце Елены было смутно и тяжело, невольные и настойчивые мысли о сыне гасили и приминали чувства, которые звали к тщеславной гордости своей красотой, молодостью. Её сердило, что позволила Виссариону привести себя в это собрание людей, жаждущих веселья, лёгких отношений друг с другом и окружающим миром. Но в тоже время она не могла обманываться — ей тоже хотелось радости, и чтобы не прекращались эти влюблённые, несомненно со стороны женщин завистливые взгляды на неё.
Они подходили к каким-то господам и дамам и к ним подходили, затевались легковесные разговоры, вспыхивал смех. Еленой любовались — она была поистине прекрасна. А Виссарион со всеми любезничал, объяснялся с несвойственной ему словоохотливостью. Елена приметила фальшивую, чуть не угодническую улыбку на его лице, когда он прогнулся к вытянутому, важному чиновнику. «Боже, что он делает? Неужели он такой же, как все?» — испугала Елену мысль; её неожиданно охватило чувство дурноты и досады.
Стало больше людей в масках и карнавальных костюмах. Елена надела блестящие, с узенькими щелками очки. Зазвучал оркестр, официанты разносили на подносах напитки и мороженое. Можно было выпить вина и закусить возле столиков в смежных комнатах. Уже выстреливали хлопушки, сыпалось конфетти, шуршала в воздухе мишура и отовсюду вспыхивали бенгальские огни. Ёлка в центре сияла разноцветными электрическими фонариками, переливаливалась шарами. Елене мнилось, что в такой великолепной зале, при таком скоплении весёлого, настроенного на игру народа с ней непременно произойдёт что-нибудь радостное, невероятное. Молодость звала к безмятежности, веселью, однако память сердца крепко сидела в ней, казалось, вросла в каждую жилку. И она с грустью понимала, что всё же не сможет веселиться, как все. Она помнила, не забывала и отнятого у неё сына, и страшные глаза отца, стоявшего перед ней, дочерью, на коленях, — она всё помнила и не знала, как уйти, скрыться от этой горькой памяти сердца. Она то смеялась, то обрывно замолкала, потуплялась. Виссарион, в маске арапа, склонялся к её уху: