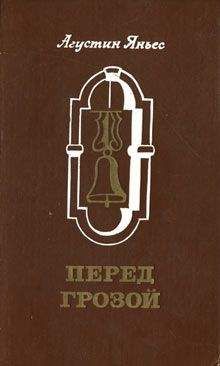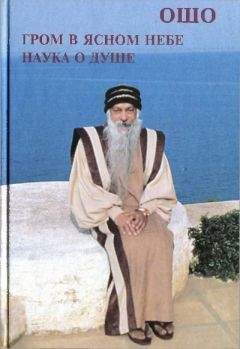Когда малочисленные провожатые следовали за гробом Микаэлы от ее дома до церкви, а оттуда на кладбище, ни одно окно, ни одна дверь не скрывали своего осуждения, и даже на улицах люди отходили в сторону, чтобы не встретиться с ее гробом.
— Руперто, — говорили после, — совсем стыда лишился, пришел на ее похороны.
— А еще большее бесстыдство, что ему это позволили.
— И слышали от него — Дамиан не выйдет живым из селения, он с ним сведет счеты.
— Счеты следовало бы сводить раньше, если он недаром носит штаны.
На кладбище Лукас Масиас расхаживал, показывая могилы застреленных при попытке к бегству.
— Если бы Дамиан был сторонником Рейеса… Потому как теперь закон о попытке к бегству применяют только к политическим, — заметил кто-то из присутствующих.
— Да, теперь нам придется все улаживать с Пруденсией, Клементиной и Хуаном, — толковали те, кого связывали с доном Тимотео долговые обязательства. — Дети дона Тимотео — они уж с нас шкуру сдерут.
За Дамианом прибыл пикет жандармерии. Стало известно, что увезут его не в Теокальтиче, а в Гуадалахару. Приходский священник не замедлил встретиться б политическим начальником, потребовал от последнего обеспечить преступнику безопасность, как это и следует по закону.
— Я ничего не знаю. Приказ есть приказ. Вон там стоит капрал из конвоя, он скажет, может ли кто еще сопровождать преступника. Если бы здесь были корралисты[102], тогда другое дело! Кроме того, преступник отказался давать показания на предварительном следствии. Это еще больше осложняет его положение.
Только сеньор приходский священник интересовался судьбой преступника. Посещал его каждый день. И с каждым разом все настойчивее становились его увещевания, но он так и не мог сломить упорство узника, который никак не соглашался на то, чтобы какой-нибудь священнослужитель сопровождал его в столицу штата или… навстречу смерти.
И лишь когда Дамиана вывели из тюрьмы ранним утром тридцать первого, в день святого Рамона, то окна и двери распахнулись, обнажив свое любопытство.
— Так и не захотел исповедаться!
— Везут его несвязанным.
— Не довезут и до Лабора.
— Даже если с ним поедет падре Рейес.
— Не захотел ничего говорить.
— Не захотел исповедаться, ни за что на свете!
— А как Руперто?
— Хорошо, спасибо.
— Он не встретит его по дороге? Не попытается застрелить?
— О Руперто ни слуху ни духу.
— Должно быть, прячется под кроватью.
— Переодетый женщиной.
Когда конвой с арестантом миновал Лабор-де-Сан-Рамон, в честь праздника святого зазвучали трубы и большие барабаны, взрывались в воздухе шутихи и ракеты — и это породило слухи, долетевшие до селения, что стреляли в Дамиана Лимона, человека, презираемого всей округой.
Те, кто учился, и те, кто отлучился
С самых первых чисел сентября стали прибывать на каникулы студенты, однако траур селения сразу же заставил их забыть о сумасбродствах и поддаться общему унынию. И все же мало-помалу молодость и жизнерадостность приезжих стали теснить мрачную печаль жителей селения.
Большинство студентов обучалось в духовной семинарии. Селение недаром гордилось тем, что его называли церковничьим. Отсюда выходили и выходят божьи служители, рассыпаясь по всей епархии. Редким был тот год, когда менее полудюжины пареньков принималось зубрить латынь; чаще их число было значительно большим. Редким был тот год, когда не выходил, пусть в церковные певчие, хоть один из юношей данного прихода.
Время каникул для сеньора приходского священника было чревато особыми тревогами и опасностями. Сколько юношей — философов и даже богословов, призвание которых казалось непоколебимым, отходило в эти месяцы свободы от избранного пути, поддаваясь старым и новым соблазнам. Чаще всего происходило так: из тщеславия или ради того, чтобы убить время, семинаристы разыгрывали роль женихов, а к своим занятиям возвращались, уже познав прелесть беспутства, от чего им потом было весьма трудно избавиться; кроме того, каждый из них, вернувшись в семинарию, забывал о своих обещаниях и через год не скупился на новые — уже другой девушке, уподобляясь колибри, перелетающему с цветка на цветок. А вместе с тем они были любимцами всего селения; они играли на гитаре и пели светские песенки; срывали аплодисменты, декламируя романтические стихи, ловко играли в карты, сыпали скабрезными анекдотами, затевали всякие истории, тут и там расставляя ловушки той или другой девушке, — в результате, случалось, снимали с себя семинарское облачение и отказывались от предназначенного будущего или из них выходили дурные пастыри.
Рушились судьбы несостоявшихся священнослужителей; обманутые в своих надеждах девушки жили в страхе и смятении, заблудившись в мечтах и разочарованиях. Сколько их — Лин, Магдалин, Гертрудис — продолжало надеяться годы и годы, пока ни понимали, что это безнадежно! Сколько их — состарившихся в напрасных упованиях! И сколько их нынче начнет томительное ожидание, шипы которого заостряют угрызения совести, потому что поступаешь против воли бога, скрывая от него виноградаря лоз твоих! Угрызения, которые не дают уснуть весь год, много лет. Вечная тревога — придет или но придет письмо от уехавшего.
А сколько семинаристов приезжает уже с решением оставить церковную стезю и посыпает солью чаяния священника, чаяния отца и матери, всех родственников, мечтавших, что из их рода выйдет свой священнослужитель! И во многих душах будут посеяны первые семена разочарования! «Multi sunt vocati et pauca electi»[103].
Сколько юношей? Сколько девушек? Как будто у бедного приходского священника нет других причин для бессонницы.
Шумная неуемность, сумерки, прикрывшиеся светом, смятение мира, многочисленные и многообразные тревоги часа — все это наплывает вместе со студентами, бесконечная болтовня которых, отдаваясь эхом дневной суеты, возмущает душевный покой селения.
А вот Лукас Масиас спешит освежить свои старые истории новенькими, свежеиспеченными. Нет, разумеется, этим новым историям он не очень-то верит, но «суть уясняешь, если клубок размотаешь». «Что нового в политике?» — «Остается ли дон Порфирио?» — «Продолжается ли заваруха?» — «Что говорят о Столетии[104]?»
И Лукас, как и все другие охотники за новостями в селении, а их немало, тянет за язык студентов; а те не заставляют себя долго просить, правда, не безвозмездно, и рады-радешеньки блеснуть своей осведомленностью, проницательностью, апломбом своих суждений и предсказаний, как будто в их руках сосредоточены нити вселенной и судеб людей.
Приехавшие называют yекоего Франсиско Мадеро[105], который ездит по Северу и произносит речи против переизбрания президента. Одни говорят, что он сумасшедший и хочет ни больше ни меньше, как быть вице-президентом при доне Порфирио. Другие утверждают, что он спирит и масон, который в подходящий момент получит помощь от гринго. Третьи считают, что он ничего не добьется, — ведь даже генерал Рейес не смог изменить положения, а этот, чего доброго, ввергнет нас в анархию; однако шут с ним, он — не фигура: не генерал, даже не лиценциат — просто ранчеро из штата Коауила. Да и разве наши революции когда-нибудь начинались на Севере?
— Посмотрим… Помяните мое слово, — говорит Паскуаль Агилера, студент, о котором ходят слухи, что он не собирается возвращаться в семинарию. — Не зря вокруг Мадеро столько шума, о нем знают везде, повсюду у него сторонники, не желающие переизбрания президента, и за ним, богатым, идут бедняки. Так начинали все апостолы. Пусть осторожнее себя ведут «сиентифики»[106] и подумают об истории Давида и Голиафа. Вы еще вспомните мои слова.
Однако никто не разделял мнения Агилеры.
В чем студенты единодушны, так это в том, что Рейес воздержится вступать в бой и все будет продолжаться, как тридцать лет назад.
Лукас Масиас старался запомнить приметы: «Белый, низкорослый он, с бородкой, нервный и симпатяга», Лукас не мог пояснить, почему с самого начала имя и облик Мадеро он объединил с самой сенсационной вестью, привезенной студентами: с возвращением кометы Галлея — эта весть для большинства обитателей заслонила и заставила потускнеть все политические темы и посеяла семена тревоги.
— Нет сомнения, что-то разразится — я не говорю революция, но не избежать войн, голода и чумы, — высокопарно пророчествует всюду Лукас и, подхватив высказывания Паскуаля Агилеры, добавляет: — Когда появляются апостолы, все называют их безумцами, мальчишки забрасывают их камнями, а власти бросают их в тюрьмы, однако никто не в силах заставить их замолчать.