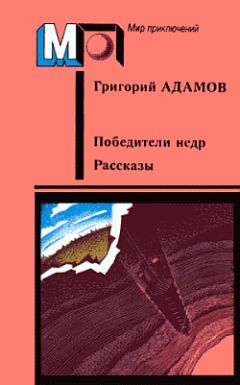— Молчи, молчи, шальная! Греховодница! О другой любви я говорила. Беспутница ты разнесчастная!
Мария бросилась к двери и плотно её захлопнула. Ржавые уключины сердито вскрипнули, и установилась тишина. Такая глубокая тишина, что даже слышался взвон тёршейся о прибрежную отмель ангарской воды, а от иннокентьевского паровозного депо, расположенного в нескольких верстах за рекой, пришёл скрежет сцепляемых вагонов, вздохи локомотива — он выпускал свистящий пар. Елена присела на лавку, сникла, теребила красную бахромку платка. Мария плотно повязала на голове сбившуюся чёрную косынку, перебирала чётки.
— Пойду, тётя, а?
— Ступай с Богом. Всем нашим — поклоны.
Но родственницы всё же обнялись.
— Какие, Феодорушка, у тебя чистые глаза. Прямо хрусталь.
— С души соскребаю скверну — вот и в глазах чисто… дурёха ты, Ленка. — Помолчала, не отпуская от себя Елену. — Не натворила бы ты чудачеств — боюсь. В сердце у меня ноет. Чувствую, что-то ты мне не сказала очень важное. Скажи, пока не поздно. Скажи! — Но Елена отрицательно покачала головой, промолчала, отводя глаза. — Забудь ты этого ссыльного: нечистые они люди, слуги сатаны. На Бога и царя войной идут. Без царя, может, и проживём, — перешла на шёпот Мария, — а без Господа нашего Иисуса Христа — никак. Иззлобимся, испоганимся, во грехе захлебнёмся. Мы уж ладно, а вот детям и внукам нашим за что уготавливаем мучения? Смирись с волей Божьей.
Взгляд Елены блуждал по бревенчатым стенам, ярко освещённым одним, но широким и ярким лучом, поднимался к сумеркам потолка с перекрестием балок и стропил, словно бы хотела она увидеть нечто большее, чем позволяло ей это замкнутое пространство.
— Шальная ты, шальная, — качала головой Мария.
Неожиданно дверь распахнулась, в помещение ворвался вихрь солнечного света и землисто, лиственно пахнущего тепла. На пороге стоял Семён. Весь он был подтянутый, крепкий, литой, хотя худощавый и высокий. В длинных, но мускулистых руках держал толстой кожи кнут, согнутый надвое. Кожаная, с овчинным подбоем тужурка, плотного сукна тёмные штаны, заправленные в высокие голенища яловых сапог, коротко стриженные русые волосы, отсутствие бороды — всё производило впечатление крепи, силы и уверенности и ещё какого-то важного, продуманного движения, которое кем-то прервано, но понятно, что ненадолго: что остановить такого человека по-настоящему почти невозможно или даже не стоит этого делать, если он сам того не захочет. От Семёна так и повеяло на Елену — осознала она — духом самостоятельности и ума, если, конечно, они могут пахнуть. Впрочем запах был. Его сразу уловила Мария, — незнакомый для места, где обитают одни женщины: крепкий, здоровящий и обновляющий воздух вокруг запах гуталина, которым жирно были смазаны его добротные, хотя и не новые сапоги, и дорогого табака.
Мария откровенно любовалась Семёном, чуть улыбаясь ямочками у губ.
Елена смотрела на Семёна смущённо и растерянно.
— Вот вы где спрятались, — не сразу сказал он, разглядев в потёмках родственниц.
— Здравствуй, мой родной, — подошла к нему Мария.
— Здравствуй, Феодора, — крепко пожал он её лодочкой протянутую маленькую ладонь. — Что, учишь мою жену солить огурцы? Добро.
Елена молча направилась к выходу, сохраняя на лице неестественное холодноватое выражение, словно разговор, который завязался между родственниками, её не касался.
Семён запрыгнул на облучок пролётки, а Мария за рукав кофты попридержала Елену возле ворот, шепнула в самое её ухо:
— Он тебе послан Богом. Береги его.
— Богом? — беспричинно прищурилась Елена и зачем-то плотно сжала губы.
— Покрутит тебя, щепочку бедовую, покрутит на стремнине вот такой реки, — махнула Мария головой на Ангару, широко, мощно нёсшую свои снеговые тугие воды, — да, вот такой реки под названием жизнь, и пристанешь ты к тому же берегу — к Семёну. Он — настоящий твой. Твой муж, дурёха ты.
Елена взглянула на Ангару, всю светившуюся бликами, нехорошо сморщилась:
— Далеко-далёко может такая-то речка унести — не сыщете.
— Господь всё одно — видит. И здесь, и за тысячи вёрст отсюда всё-всё зрит. Господь вас, Лена, повенчал на небесах, и он — богоданный твой. Господу и развенчивать придётся вас, если уж за тем дело станет… Всем нашим — низкий поклон! Помню и молюсь за вас, родные.
Пролётка тронулась, солидно-глухо поскрипывая рессорными пружинами. Сытые, отдохнувшие лошади дробно и охоче застучали копытами по мощёной дороге. Елена на прощание махнула тётке рукой. Семён сызбока взглянул на Марию, осенил себя крестным знамением, принаклонился в сторону монастыря и взмахнул кнутом. Елена видела, как Мария крестила воздух; глаза инокини улыбались, но по щекам ползли слёзы. Сама Елена не перекрестилась: сразу — отчего-то не догадалась, а на ходу да далеко отъехавши — уже и неловко было бы, наверное; с неизъяснимым двойственным чувством досады покосилась на Семёна.
В чистом небе раскалённой каплей зависло маленькое одинокое солнце. На огороде сжигали траву и гнилые доски, и прогорклый густой дым рвался в небо, но какая-то сила клонила его к земле, впутывала в пожухлую траву пустошей и оврагов, катила по руслу Ушаковки или загоняла под изгороди, и небеса оставались величественно недоступными, ясными и прекрасными. Дым едко задел глаза Елены, но она из вредного чувства даже не сморгнула — упрямо смотрела в небо, и неспокойную душу её тянуло выше, выше, подальше от земли.
* * *
«Как меня освежили воспоминания, наполнили теплом и светом, — подумала Елена. Она, пролежав в постели всё утро и день, так и не сомкнула глаз; а Виссарион под её боком блаженно спал. — Но куда зовёт меня сердце моё? Как Феодора сказала: «Он тебе послан Богом. Береги его»? Он мне послан Богом, беречь его?» — зачем-то спросила она у морозного вечера, который беспросветным фиолетовым небом заглядывал в окна.
73
В конце января Елена и Виссарион всё же покинули Иркутск. Они устремились в Грузию, к морю. Но ехали долго, мучительно: застопоренные военные и гражданские эшелоны забили пути на тысячи вёрст, не хватало паровозов и угля и даже машинистов, пропитание стоило жутко дорого, порой и воды испить не было, морозы лютовали, рельсы по трое-четверо суток не могли расчистить от нередких снежных заносов. С ужасающей бестолковщиной и несправедливостью жизни столкнулась Елена, и в детстве и в юности надёжно защищённая от превратностей родительским попечением и лаской. А Виссарион, потирая руки и усмехаясь, всё нашёптывал ей с энтузиазмом:
— Хорошо, хорошо! Пусть люди обозлятся, отчаются. А потом — волна за волной поднимутся на это прогнившее самодержавие и осточертевших попов. Будет жарко!..
— Прекрати ты бредить! — порой вскипала Елена, отталкивала Виссариона. Убито и зло молчала, туго накручивая на палец или всю ладонь свою богатую косу.
Елена всегда считала и верила безоговорочно, что Российская империя — могучая, великая, богатая, и устроена разумно и твёрдо. «Но что же ныне творится вокруг!» — не могла охватить умом и душой молодая, неискушённая Елена. И смириться не могла, хотела как-нибудь ввязаться в это раскатывающееся всеобщее неблагополучие, остановить или притормозить его. Но как, с кем? Вокруг неё были только лишь растерянные, оглоушенные, а чаще всего смирившиеся, поникшие люди. Порой жизнь становилась просто невыносимой: закончились деньги, были проданы за бесценок все украшения и кое-что из одежды. Минутами Елена буквально сатанела и чуть не бросалась на Виссариона с кулаками.
В одном захолустном городке за Тюменью пришлось промыкаться более двух недель, ожидая локомотива. Но Елена просто так не ждала, не томилась — она помогала раненным из санитарного поезда. Насмотрелась на жуткие раны, на калек, на умирающих, надышалась запахами гниющей плоти, наслушалась стоны и мольбы. Выспрашивала у солдат и унтеров о брате Василии, но никто ничего не знал. Ходила в местную крохотную церквушку, молилась и плакала, молилась и плакала, всматриваясь в лик Христа, но уже не искала в нём улыбки. Ей не хотелось выходить из церкви, возвращаться в шумный, прокуренный вагон, а потом вдруг поняла — и к Виссариону не тянет. Завыла, но комкала в груди это странное, нарастающее чувство. «Как же может не тянуть к любимому?»
Уже в дороге Елена поняла, что — тяжела, и эта новая беременность снова — как и в первый раз — гнетущей тяготой прижала её душу, насторожила и даже устрашила. «Но чего же бояться, если любимый рядом?» — недоверчиво вопрошала у себя потрясённая Елена. Она подолгу молчала, виновато улыбалась, когда выхудавший и словно бы вычерненный от голода и холодов, но весь какой-то устремлённый, наэлектризованный Виссарион тормошил её, затягивал в разговор, украдкой ласкал в этом человеческом муравейнике. Забившись в угол, смотрела за окно на незнакомые земли: перед её глазами проплывала вымороженная пустынная Сибирь. За Уралом появились серые, угрюмые проплешины, а на юге так и вовсе не оказалось снега, чему Елена чрезвычайно обрадовалась, и эта радость, поняла она, была первой радостью за этот ужасный месяц нескончаемой дороги.