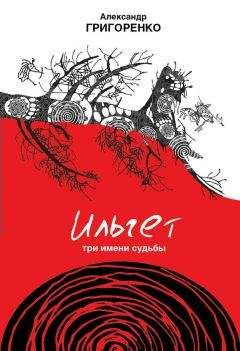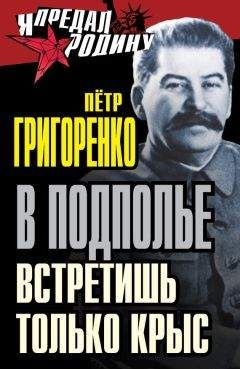Но следом шел другой ревущий ряд, мы снова становились сзади скота, а потом бежали, чтобы гнать третий… Уже была новая ночь. Метательные орудия подогнали совсем близко ко рву — огненные молнии летели над нашими головами, разбиваясь о стены, слепили глаза сполохами белого пламени…
И вот тогда, когда мы бежали за скотом, кончился Йеха.
Он упал лицом вниз и зажал ладонями уши. Он слышал все звуки войны и был подобен шествующему богу. Но звук умирающего зверя был для него невыносим — я видел это на великой охоте. Я бил его ногами, кричал: «Вставай, убьют!»
Он поднялся не от моего битья и криков, а потому, что захотел сам, сел на земле, и я увидел в белых сполохах, как брат мой снял ладонью грязь с каменного лица, а потом протянул руку и пошевелил пальцами, будто чего-то нащупывая. Йеха искал мой рог.
— Теперь вижу, — сказал он.
— Что?
— Вижу, как рыжие муравьи несут разъятое на части тело большого черного муравья. Рыжих много, они идут волнами…
Он часто, очень часто говорил о муравьях, но тогда я подумал, что разум оставил его. Приближались фигуры в остроконечных больших шапках, я вновь закричал: «Вставай!» — и сын тунгуса тихо и покорно поднялся на ноги.
Оказалось, разум его чист и видит лучше, чем мои глаза.
Снова пригнали скот, потом принесли откуда-то камни, потом опять был скот, но рву до сытости все еще недоставало — совсем немного недоставало, чтобы прошли тараны и пробежали люди с лестницами.
И монголы сделали последний шаг.
Подошел тумен, спешился, выстроился в нерге — неохватный и непроницаемый — и щитом к щиту пошел на остатки людей и скота.
Мы стояли, а нерге приближался. Некоторые побежали ко руву от надвигающейся стены. Тупыми концами копий хашар сшибли с места — от удара Йеха пробежал несколько шагов.
Он рывком приблизил меня, как всегда делал, когда бывал сердит, — я увидел его медвежьи лапы — лапы разорвали ремень, соединявший обоюдное существо Сэвси-Хаси. Потом лапа опустилась на мою голову, и все затихло…
Братом моим насытился ров Самарканда.
Погибли все, кого теснил нерге. Но Йеха один стоил всего хашара — сколь велико было его тело, столь велика и душа.
* * *
Я очнулся, когда к стенам хлынуло все — кони, люди с лестницами, тараны, камнеметы… Наверное, меня сочли мертвым, но скорее просто не видели. Как увидишь ночью человека маленького, к тому же одного цвета с грязью земли? Все воинство пронеслось надо мной и не затоптало, но тогда я не мог даже удивиться этому.
Я поднял голову и увидел — я последний в скоплении людей, устремившихся к стенам. Я за их спинами, а впереди меня — тьма. Я поднялся и побежал в глубину тьмы, бежал до тех пор, пока не почувствовал траву под ногами. Обернулся — увидел далекое бледное зарево.
Я рухнул, ударившись лицом о камень, я стиснул камень зубами, и камень разносил по костям смертные вздохи земли, и с каждым вздохом во мне билось: «Кто ты — все дал и отнял? Кто ты — все дал и отнял? Кто ты — все дал и отнял? Кто ты…» Потом я кричал эти слова — бессмысленные, неизвестно откуда упавшие на меня, — кричал так, что кровь хлынула носом.
Потом я устал — лег и уснул, и спал так крепко, что молчание того сна помню до сих пор.
Когда проснулся — был день, теплый, почти жаркий. Я пошел по земле и, пройдя немного, увидел селение. Откуда-то выбежала собака, похожая на большую крысу, и, увидев меня, убежала. От многих домов остались одни остовы, но было несколько целых. В одном из них, в углу, на ворохе высохшей травы, сидела притихшая птица — она не умела летать и, подобно той собаке, унеслась от меня. Птица высиживала яйца. Съев их, я лег на птичье гнездо и опять уснул.
* * *
Посреди ночи непонятный страх поднял меня и погнал к городу. Страх, неумолимый, как монгольский нерге, гнал меня из тишины туда, где во рву исчезали люди — сонмы людей, — гнал так, будто в тишине пряталась гибель, а там было спасение.
Когда я прибежал, снаружи оставались лишь камнеметы с прислугой и разъезжали редкие всадники. Под стенами валялись тела.
Я встал у колеса орудия. Подошел оборванный земляной человек из хашара. В его руках была палка, он хотел прогнать меня, но я схватил камень и заорал по-остяцки, что проломлю ему голову. Человек опустил свое смешное оружие и равнодушно сел у колеса — рядом со мной. Мимо проехал монгол, из-за спины посмотрел на нас, показал в улыбке белые зубы и, легонько ударив пятками по конским бокам, направился к другому орудию.
Земляной человек вдруг толкнул меня в плечо вытаращил глаза и быстро задвигал губами: он что-то рассказывал мне, не ведая, что я глухой. Он размахивал руками, показывая что-то огромное, проводил пальцем, похожим на сучок, по своей шее, тыкал кулаком мне в грудь, воздевал руки, потом внезапно смолк и уставился в пустоту. Потом я увидел, что он плачет, раскачиваясь, по-рыбьи открывая рот…
Только тогда я заметил, что роговой трубы со мной больше нет.
* * *
Теперь я знаю, о чем говорил тот человек.
На пятый день, когда наполнившийся ров дал пройти таранам, и хашар гроздьями падал со стен, город опять открыл зев, но вместо всадников выпустил трех стариков в длинных одеждах и белых круглых шапках. Навстречу им выехал нойон в желтом шлеме. Они говорили недолго.
Те ворота именовались Намазгох или Врата Молитвы. Несомненно, старики назвали это имя. Следуя здешнему обычаю — ни о чем не просить прямо, они говорили, что пока одни упорствовали на стенах, другие молились о том, чтобы великий хан смиловался, когда Самарканд падет.
Стариков увели туда, где стояли юрты, а во Врата Молитвы влетел первый тумен. Потом отворились трое других ворот, и город принял все войско, стоявшее у стен.
Молитва не сбылась.
Город, наводненный врагом, продолжал упорствовать. Как и в Бухаре, оставались в нем люди, пожелавшие погибнуть, чем быть разделенными на десятки. Они заперлись в крепости, которая находилась в глубине города. Крепость была высока, и тем, кто стоял у стен, открывалось далекое движение и дым боя. Тот, кто молился о милости, когда другие сражались, теперь лез на стены, чтобы погибнуть от своих.
На другой день из ворот посыпались люди. То был новый хашар, он заполонил равнину перед стеной и снова забрал меня. Нас окружили и погнали куда-то за холмы. По пути всадники отрезали от толпы по куску, оставляли на месте, а остальных гнали дальше. Когда весь хашар был разрезан на части, людей начали выставлять цепью, которая тянулась по холмам до самого города. Потом проехали мимо нас повозки чем-то нагруженные…
Открылся замысел хозяев, когда пошло по людской цепи движение — рабы что-то передавали от одного к другому, — и скоро человек, стоявший рядом, передал мне кожаное ведро, наполненное черной поблескивающей жидкостью…
Это была нефть. Она сочилась из-под земли за каким-то из ближних холмов. До ночи наполненные ведра шли по рукам рабов — от источника к городу. Я впервые видел эту черную блестящую воду и не мог понять, зачем она понадобилась хозяевам. Работа наша прекратилась уже в темноте. Всадники собрали цепь и погнали толпу обратно, к городу.
Над Самаркандом поднималось зарево — то пылала крепость, облитая нефтью.
Всю ночь пламя упиралось в небо. А утром заработали тараны, и народ, загнанный наверх, стачивал молотами стены и башни ворот. Скоро остались от них только покатые груды камня — только Врата Молитвы были оставлены для входа и выхода.
Но и тогда судьба не подпустила меня к городу. Наступало тепло, и монголы велели зарывать тела и засыпать ров, опасаясь, что мор пойдет по пятам войска. В других городах не было у хашара такой работы, все — и люди, и животные — оставалось лежать там, где настигла гибель. Но Самарканд забрал народу больше, чем все другие города…
Я был среди тех, кому определили копать землю под могилы неподалеку от переполненного рва, другие собирали тела под стеной, загружали ими повозки и везли к нам. От усталости я не различал того, что делаю, мертвецы для меня сравнялись с сором земли, десятники не давали роздыху, и, наверное, скоро я свалился бы в яму, которую сам копал. Кто-то сзади толкнул меня в спину, я упал в грязь, и, поднявшись, увидел монгольского всадника. Он смотрел на меня долго, улыбался, будто ждал чего-то.
— Сэвси-Хаси? — проговорили его губы.
Это был Боорчу — единственный монгол, назвавший мне свое имя. Наверняка узнал он меня по одежде, по глухой юрацкой малице — из всех людей, носивших ее, видно, один я добрался до этой земли.
Боорчу еще говорил что-то, показывал руками трубу, приставленную к уху — справлялся об участи своего подарка. Я стоял и молчал.
Он посмотрел на меня еще немного, подъехал, схватил за шиворот, так что я едва не задохнулся, затащил на круп коня и повез куда-то.
Монгол отвез меня за холм, стряхнул на землю и нагайкой указал на канаву, которую рыли зачем-то и бросили. Я залез в нее, смотрел на всадника, ждал, что будет, не чувствуя страха, — усталость и голод давно выгнали из меня страх. Он подъехал ближе, приставил к моей голове нагайку и толкнул — я понял это как приказание лечь в канаву.