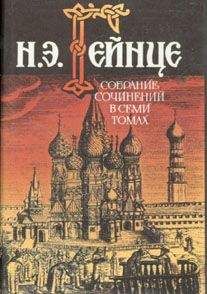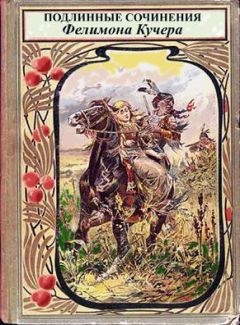Устроив ее в Серединском, Савин помчался в Москву, куда по его телеграмме, данной еще из Тулы, должна была приехать Строева.
Она еще не приехала, но в ее письмах, которые нашел Николай Герасимович в гостинице «Славянский базар», где остановился и куда еще телеграммой с дороги в Тулу он просил ее адресовать письма, Маргарита Николаевна сообщала, что пристав Мардарьев положительно сживает ее со свету, требуя предъявления нового паспорта, и что два раза в квартиру являлся ее муж, но был выпровожен Петром.
Николай Герасимович письмом просил ее отправить мебель и вещи в Тулу, а самой ехать вместе с горничной и лакеем Петром в Москву.
Недели через две Маргарита Николаевна наконец прибыла в первопрестольную столицу.
Савин сообщил ей свой план относительно продажи ей Руднева и, получив согласие, тотчас же совершил купчую крепость, причем с утверждением у старшего нотариуса тульского окружного суда дело затянулось почти на месяц.
Только в мае он повез новую владелицу в ее именье.
В природе все оживало, вековой парк зеленел.
Деревня, особенно им, еще влюбленным друг в друга, показалась раем.
Руднево было старое дворянское гнездо, с великолепной усадьбой, огромным каменным домом посреди обширного английского парка.
Перед домом и большим двором, окруженным флигелями, конюшнями и другими пристройками, был разбит роскошный цветник.
Усадьба стояла на пригорке, у подошвы которого запруженный ручей образовал два огромных проточных пруда.
За прудами были фруктовый сад и оранжереи; дальше живописно раскинулось село.
Выбеленные постройки усадьбы эффектно выделялись среди зелени парка.
Дом был большой, просторный и прекрасно отделанный и меблированный старинною ценною мебелью.
Привезенные из Петербурга мебель и вещи украсили его еще более, дав ему элегантный вид.
Маргарите Николаевне имение очень понравилось, и она с радостью поселилась в нем.
Скуки они оба не боялись, и жизнь в деревенской глуши казалась им блаженством.
Образовался даже круг знакомых из соседей-помещиков тульских жителей, которым Николай Герасимович представил новую владелицу Руднева, как свою кузину.
Гости стали собираться довольно часто, и в это время Руднево принимало праздничный вид, устраивалась охота, кавалькады, пикники.
Время летело быстро.
Лето кончалось.
Перспектива осени и долгой зимы не пугала наших сельских жителей поневоле.
Николай Герасимович был очень доволен: паспорт Строевой он достал, а копия с приговора не появлялась.
О последней он даже почти позабыл.
В то время, когда Савин и Маргарита Николаевна Строева благодушествовали в Рудневе, Настя, или, как мы ее будем называть теперь, вследствие ее полубарского положения, Настасья Лукьяновна Червякова вела деятельную жизнь в Серединском.
Имение и хозяйство в нем было действительно страшно запущено, и Настасья Лукьяновна ретиво принялась за его исправление, всюду поспевала сама и ее властный голос раздавался то в саду, то в амбарах, то на покосе, то на гумне.
— Ну и глазастая эта у нас «барская барыня», — говорили наемные рабочие и работницы, жившие в дворовых избах, и крестьяне села, подряжавшиеся на работу.
— Сметливая, любому мужику, либо дотошному помещику впору…
— Да и краля, братцы, писаная, ведь уродится же такая из простых крестьян… Подлинно барский кусочек… За красоту ей да за тело и честь.
— Баба вальяжная… Да не в этом суть, башка у ней ровно как мужицкая… До всего доходит, все знает… Для барина во как старается… Страсть.
— Любит…
— Любит… Ишь сказал… Ты в городе не живал, а я годов пять в самом Питере выжил… Пронзительные, братец, там тоже бабы…
— Ну?..
— Вот те и ну… А вот того самого ума в них нетути… Да и любовь-то тоже городская, питерская.
— Ась…
— Питерская, говорю, городская… Ишь Настасья-то норовит, коли любит, все барину-то в карман, да в карман, а те, питерские, коли полюбят, так все из кармана и тащут.
— Облегчают, значит.
— Уж подлинно, что облегчают.
— Эта, значит, еще не дошла.
— То-то оно, что не дошла… А может и честь есть, да совесть хрестьянская.
— Может и так.
Как-то раз под вечер на аллее, ведущей к дому, показался запряженный парой лошадей открытый тарантасик из тех, в которых выезжают на ближайшую станцию железной дороги серединские крестьяне, занимающиеся извозом.
Настасья Лукьяновна в это время была во дворе и отдавала свои последние приказания скотнице.
С крайним удивлением она увидала приближающийся экипаж.
— Кого это Бог несет? — недоумевала она.
— Не становой, нет… Становой был недавно… Землемер… Этот должен быть еще через неделю…
В это время тарантасик въехал на двор и остановился у подъезда, на крыльце которого уже стояла Настя, все еще не решившая вопроса, кто мог быть этот нежданный и негаданный гость.
Тем временем из тарантасика выскочил небольшого роста человек в коричневом, довольно потертом летнем пальто и военной фуражке.
Он был совершенно незнаком Настасье Лукьяновне, но зато хорошо знаком нам с тобой, дорогой читатель.
Перед Настей стоял Эразм Эразмович Строев.
Он подошел к ней и почтительно снял фуражку.
— Вы сами Настасья Лукьяновна Червякова и будете?
— Точно так-с…
— Очень приятно… Позвольте пожать вашу ручку…
Настя как-то машинально подала руку, все продолжая смотреть на странного посетителя.
— Вы это откуда же меня знаете? — наконец спросила она.
— Слухом земля полнится… Да и сами рассудите, как мне вас не знать, коли у меня до вас дело есть…
— До меня дело?.. — побледнела Настасья Лукьяновна.
— До вас, до вас самих…
— А сами-то кто вы будете?
— Отставной капитан Эразм Эразмович Строев… — расшаркался приезжий.
— Какое же дело?
— Ах, вы, королевна моя, владелица здешних мест!.. Да разве так принимают гостей… Али взашей меня хотите выгнать, так не делайте этого, потому самим себе вред нанесете, большой вред…
— Зачем взашей, помилуйте…
— А коли не взашей… так в дом пустите путника. Накормите, напоите да спать уложите… А наутро уже и спрашивайте: что ты, добрый молодец, мне поведаешь…
— Живу-то я здесь одна, так боязно… пужаюсь…
— Чего же боязно, не волк я, не съем, да для такого кушанья и зубов нет… Гожусь я вам в отцы, королевна моя, так чего же меня пужаться…
— Милости просим… — после некоторого колебания, сказала Настасья Лукьяновна.
Она пропустила в дверь Эразма Эразмовича и затем вошла сама.
Девочка лет пятнадцати, белокурая и голубоглазая Оля, сняла с гостя пальто, и он остался в том сюртуке, в котором мы видели его в Петербурге, но вместо одной орденской ленточки в петлице сюртука висел на ленте георгиевский крест.
Настасья Лукьяновна распорядилась о чае и закуске, и кстати шепнула Оле, чтобы она приказала двум работницам и работнику Вавиле — это был рослый, здоровый, хотя и пожилой мужик, приходить ночевать в дом.
Вскоре в столовой за накрытым столом, на котором кипел самовар и стояли всевозможные деревенские яства, графин с настоянной травами водкой и несколько бутылок домашней наливки, сидел Эразм Эразмович Строев и молча отдавал дань плодам искусства и забот молодой хозяйки.
— А я сюда прямиком из Тулы… — проговорил он, утолив первый голод.
— Из Тулы? — встрепенулась Настасья Лукьяновна.
— Прямохонько, кралечка, прямохонько… Как узнал, что вы здесь, в Серединском, проживаете, так я, айда, в Калугу.
— Вам что же от меня угодно?
— О том речь после трапезы, кралечка, после трапезы…
— А вы не видели в Туле Николая Герасимовича?
— Не лицезрел, не удостоился, да его в Туле и нет, а проживает он в Рудневе, как бы в крепости… На острове, так сказать, любви, купаясь в море блаженства… — заплетающимся уже языком говорил Эразм Эразмович.
— В Рудневе… любви… блаженстве… — повторила упавшим голосом Настасья Лукьяновна.
Сердце ее болезненно сжалось.
Хотя она почти ничего до сих пор и не понимала из того, что говорил ей ее собеседник, но чувствовала, что он явился сюда для нее не добрым вестником.
Гость между тем продолжал пить рюмку за рюмкой и уже в конце, как он выражался, «трапезы», еле ворочал языком.
Молодая женщина понимала, что после такой трапезы разговора с ним быть никакого не может.
Он действительно болтал какие-то бессвязные речи, произнося угрозы и даже ругательства по адресу Николая Герасимовича и какой-то неизвестной Настасье Лукьяновне «Маргаритки».
Наконец, опрокинув в себя чуть ли не двадцатую рюмку водки, — огромный деревенский графин был опорожнен почти напо ловину, — он промычал: