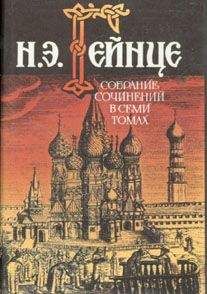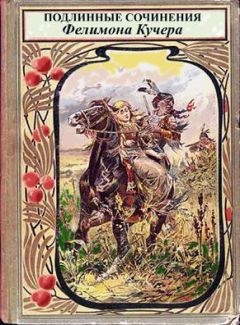Наконец, опрокинув в себя чуть ли не двадцатую рюмку водки, — огромный деревенский графин был опорожнен почти напо ловину, — он промычал:
— Ну, теперь… буде… Спать…
Он хотел приподняться, но снова грузно опустился на стул. Голова его свесилась на грудь и, не спускавшая с него испуганных, недоумевающих глаз Настя, увидала, что он засыпает.
Позвав двух работниц, она приказала им отвести гостя в отведенную ему комнату и положить на постель.
Обе бабы схватили Эразма Эразмовича под руки и почти буквально волоком потащили из столовой.
Он спал крепким сном.
— Ишь назюзюкался… дорвался… — говорили бабы. — И откуда его сюда нелегкая принесла?
Им обеим было известно, что Настасья Лукьяновна совершенно не знала этого приезжего.
Молодая женщина осталась сидеть в столовой в глубокой задумчивости.
Ее вывели из нее вернувшиеся работницы.
— Ну, что?.. — спросила она.
— Уложили, дрыхнет, как боров, прости, Господи… Да откуда он взялся, Настасья Лукьяновна? — отвечала одна из баб.
— Я и сама не ведаю… Говорит, из Тулы…
— По поручению, знать, Николая Герасимовича.
— Кажется, нет, его не разберешь.
— Коли нет, так и гнали бы в шею…
— Пусть выспится, может и добьемся от него толку.
Работницы вышли.
Настасья Лукьяновна отправилась в свою комнату, но не могла заснуть всю ночь. Страшное подозрение, что Савин выгнал ее из Руднева, чтобы заменить другой, росло и росло в ее душе.
«Блаженствует на острове любви…» — припомнила она слова пьяного гостя.
Ее всю охватывала дрожь негодования.
С нетерпением ожидала Настасья Лукьяновна утра, а с ним и разъяснения мучивших ее сомнений, за эту бессонную ночь превратившихся почти в полную уверенность в коварной и низкой измене любимого человека.
Какая-то странная перемена произошла в молодой женщине, даже черты лица ее изменились, они за эту ночь как-то резко обострились, в глазах появилось несвойственное им ранее злобное выражение и какой-то стальной блеск.
Встав со светом, она в обычный час вышла в столовую, где уже кипел на диво вычищенный, блестевший как золото, самовар.
Одновременно с ней Оля внесла и поставила на стол горячие булки, которые так мастерски пекла серединская стряпуха.
— Посмотри, не проснулся ли? — сказала Оле Настасья Лукьяновна.
Та с полуслова поняла, о ком идет речь, и быстро вышла из комнаты.
Через несколько минут она вернулась:
— Спит…
— Спит?
— Так одетый и спит, и крестик болтается… — наивно сообщила девочка.
Молодая женщина сдвинула брови и снова задумалась.
— Может, побудить к чаю? — спросила после некоторого молчания Оля.
— Нет, пусть выспится…
Налитая чашка чаю стояла перед Настасьей Лукьяновной, сидевшей подпершись о стол рукой и думавшей свою невеселую думу.
Она не дотронулась до чаю и по прошествии получаса вновь послала Олю справиться, не проснулся ли вчерашний гость. Девочка вернулась с тем же известием.
— Спит, храпит на всю комнату.
Так продолжалось несколько раз, с некоторыми более или менее продолжительными перерывами, и, наконец, Оля возвратилась и с искренней радостью доложила:
— Проснулись, умываться просят.
Девочка была очень привязана к Настасье Лукьяновне и видела, что последнюю огорчает, что гость долго не просыпается.
— Скорей вели взять подогреть самовар, а сама подай ему умыться и скажи, что, мол, просят в столовую чай кушать.
Оля выбежала из комнаты, а через минуту вошедшая работница взяла со стола самовар.
Чашка с чаем Настасьи Лукьяновны так и осталась нетронутой.
К тому времени, как Эразм Эразмович вышел в столовую умытый и причесанный, в вычищенном платье и сапогах, самовар уже кипел снова на столе.
— Здравствуйте, как почивали?.. — приветствовал он Настасью Лукьяновну.
— Благодарю вас… Прошу садиться… Вы с лимоном или со сливками?.. У нас густые, прекрасные.
— Ни с чем… — категорически объявил Строев, садясь на стул.
— Пустой… Как же это пустой… Может с вареньем, я прикажу…
— Не пью чаю.
— Так кофею?
— Не пью…
— Молока?
— В рот не беру.
— Что же вы кушаете?
— А вот, если вы вчерашний початый графинчик на стол поставить прикажете, рюмочку выпью… Отменная это у вас настойка… На чем только не расчухал…
— На тысячелистнике, но как же это с утра?
— Военная привычка.
— Вы же хотели… о деле-то.
— Не извольте беспокоиться, до вечера меня никакая настойка не сморит… После ужина только… тут же на боковую — походная привычка: где пьешь, там и спишь… хе, хе, хе…
Настасья Лукьяновна приказала подать водку и закусить.
— Черного хлеба с солью, по утрам больше ничего… Солдат.
Оля вышла и вскоре вернулась с подносом, на котором стоял графин с «настойкой на тысячелистнике», тарелка с черным хлебом и солонка с солью, и поставила все это перед Эразмом Эразмовичем.
— Дозволите-с? — обратился он к Насте, протягивая руку к графину.
— Кушайте на здоровье.
Дрожащей рукой наполнил Строев рюмку и медленно поднес ее ко рту, опрокинул ее в него, крякнул и круто посолив кусок хлеба, тоже отправил его в рот.
— Теперь и к делу… — начал он и вдруг остановился. Настасья Лукьяновна вся превратилась в слух.
— Дозвольте еще, чтобы не хромать… — совершенно неожиданно для нее, протянул он снова руку к графину.
— Пожалуйста! — нетерпеливо сказала она.
— Еще опрокидонт… — произнес Эразм Эразмович, налив другую рюмку и снова опрокидывая ее в горло… — Отменная настойка…
Он снова закусил хлебом с солью.
— Ты, девочка, выйди… — вдруг обратился он к стоявшей у притолоки двери Оле. — Молода еще все знать — скоро состаришься… Разговор будет у нас с Настасьей Лукьяновной, тебя не касающийся.
Девочка растерянно вперила свой взгляд на Настасью Лукьяновну.
— Выйди, Оля… — повторила ей последняя. Девочка, не сказав ни слова, вышла.
— Дело-то выходит у нас с вами, кралечка моя, казусное, как и приступить к нему не придумаешь.
Строев замолчал и задумался.
Настя положительно пронизывала его глазами, точно хотела прочесть в его голове таящиеся мысли.
— Оба мы, можно сказать, потерпели от одного человека — от моей жены.
Он остановился.
— От вашей жены? — переспросила, не ожидавшая такого оборота дела, молодая женщина.
— От нее самой, от прелестницы Маргариты.
— Маргариты?.. — повторила Настя.
Она вспомнила его вчерашние бессвязные речи, в которых он наряду с именем Николая Герасимовича поминал какую-то Маргаритку.
«Так это его жена!» — подумала она.
— От прелестницы Маргариты… — повторил в свою очередь Эразм Эразмович. — Прелестницей называю я ее не без основания, так как краше лицом и телом едва ли во всем подлунном мире найдется женщина. Вы вот красивы, слов нет, а она лучше.
— Лучше! — произнесла Настасья Лукьяновна.
— Не в пример лучше, но зато сердце у нее змеиное.
— Змеиное?
— Хуже-с змеи. Змея коли ужалит, ну, умрет человек, а эта на манер тарантула… ужалит, и начнет человек плясать, пляшет, пляшет, пока не дойдет до потери человеческого образа, как ваш покорнейший слуга. Хорошо-с? В зеркало на себя смотреть боюсь — вот какой. А был человеком. Лет пять-шесть тому назад служил в гвардии… в Петербурге, перед очами, так сказать. Денег вволю, на войне турок бил — на это время я в армию переходил — Георгия заслужил, на виду был у начальства, карьера. Стар, скажете. Нет, не стар, мне всего тридцать три года, а весь седой. Опыт старит, потому-то вчера я сказал вам, что в отцы гожусь. Стариком совсем стал, разбитый, расслабленный. А все она — тарантула, укусила, и пошел плясать, выплясался. Теперь вот таков, видите. Пью. В отставку из-за нее вышел. Дозвольте третью… — вдруг неожиданно прервал он свой рассказ и потянулся к графину.
— Кушайте, кушайте.
Эразм Эразмович выпил, не забыв перед тем провозгласить:
— Еще опрокидонт.
— Иду это я, золотая моя, лет шесть тому назад по Невскому проспекту, улица есть такая в Питере. Вы не бывали?
— Нет.
— И слава Богу. Иду это я и вспомнил, что кузина моя графиня Черноусова, — у меня родня все знатная, заслуженная, отец мой покойный, царство ему небесное, полный генерал был, а мать при дворе большую роль играла. Матушку-то я в гроб уложил из-за нее, из-за Маргариты. Но не в том дело, вспомнил, говорю я, что кузина пари у меня выиграла — нужно ей коробку конфет покупать. А тут, как раз иду мимо кондитерской. Дай, думаю, зайду. Зашел и ахнул. Новенькая продавщица за прилавком стоит. Других-то я знал. «Что, — говорит, — прикажете?» А у меня даже и язык к гортани прилип, смотрю на нее во все глаза и ни слова. Улыбается и повторяет: «Что прикажете?» Выбрал я бомбоньерку, нарочно долго выбирал и велел положить конфет, а сам с нее все глаз не свожу. Красоты она неописанной. Глаза во… — Строещ сложил в кружок указательный и большой палец правой руки, — и все в масле. Лет так шестнадцать, семнадцать, не более, сложена — восторг.