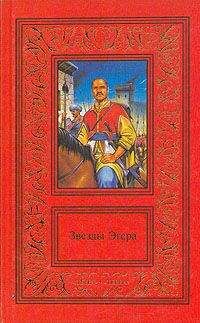И она обернулась к мальчику.
— Да какой же он венгр, тетушка Ваш! — улыбнулся Пете. — Он говорит не «дериде», а «нереде». Спрашивает, где его мать.
— Йок бурда анын![74]
Ребенок снова расплакался:
— Медед, медед![75]
Тетушка Ваш опустилась на колени и молча начала одевать мальчика. Надела на него красные шаровары, красную шапку, красные башмачки и фиолетовый бархатный доломан. Доломан-то, правда, был уже в заплатках, да и красные башмачки повыцвели. Она вытерла фартуком лицо мальчика.
— Надо его отдать туркам, — сказала она.
Пете и сам не знал, что делать.
— Эх! — заорал Бодогфальви, выхватив саблю. — Что ж, разве эти собаки не убивают наших детей? Они даже младенцев не щадят!
Тетушка Ваш оттащила мальчика и, защищая его от сабли, прикрыла руками.
— Руби! — крикнул шатерник.
— Не тронь!
И мгновенно три женщины обступили ребенка.
Пока солдат вкладывал саблю в ножны, ребенок исчез между фартуками и юбками. Попробуй возьми его, теперь даже с ищейкой не найдешь!
После ночного боя Гергей поскакал к Мелегвизу. Выкупался и тотчас вернулся.
Перед дворцом он встретил плотного парня в синей поддевке.
Парень нес на плече железный шест, которым забивали заряд в пушку. На конце шеста чернела закопченная пакля. Парень поклонился Гергею. И когда обратил к нему лицо, Гергей, остолбенев, остановился.
Белокурый парень в синей безрукавке… детский маленький нос… смелые глаза…
Бывают лица, которые остаются у нас в памяти, как сохраняются на стене картины. Гергею крепко запомнилось и это лицо, и эта фигура. Он видел их ребенком, когда попал в неволю и сидел на возу на коленях у крестьянской девушки. Парень был тогда в оковах и ругал турок.
Гергей крикнул:
— Гашпар!
— Слушаю, господин лейтенант! — изумленно отозвался парень. — Но откуда вы изволите знать меня? — И он снял шапку.
Гергей смотрел на него глазами, полными удивления.
«Ерунда какая-то! — размышлял он. — Не может быть! Двадцать лет назад я видел его».
— Как зовут твоего отца?
— Так же, как и меня: Гашпар Кочиш.
— А мать зовут Маргит, верно?
— Да.
— Они в Баране поженились?
— В Баране.
— Были у турок в рабстве?
— Их только гнали в Турцию.
— Но они освободились?
— Да.
— Их освободил Добо?
— Да, Добо и один мальчик.
Лицо Гергея запылало.
— А матушка твоя здесь?
— Сюда перебралась, потому что отец мой здесь. Мы, господин лейтенант, вместе с ним при одной пушке.
— А где твоя матушка?
— Да вон она идет.
От ворот шла круглолицая полная женщина.
В руках у нее — два кувшина с молоком, за спиной — бадья, в подоткнутом фартуке — морковь.
Гергей торопливо подошел к ней.
— Милая моя тетушка Маргит! Дайте-ка я вас расцелую!
И прежде чем женщина успела опомниться; он расцеловал ее в обе щеки.
Тетушка Маргит глядела на него, обомлев.
— Душенька моя, — сказал Гергей, — я тот самый мальчик, которого вы везли на коленях по печской дороге.
— Да неужели? — изумилась женщина. — Неужели это вы, ваша милость господин витязь?
Голос у нее был густой и низкий, точно звук трубы.
— Я, душа моя! — ответил радостно Гергей. — Сколько раз вспоминал я ваше доброе девичье лицо! Вспоминал, как вы по-матерински ласкали и баюкали нас там, на возу.
Глаза тетушки Маргит увлажнились от радости.
— Держи кувшин, — сказала она сыну, — а то, ей-богу, выроню из рук. А та крошечная девочка, жива ли она?
— Жива! Она моя жена. Сейчас она дома, в Шопроне. У меня и сын есть. Зовут его Янчи. Я напишу домой, что видел тетушку Маргит. Напишу им непременно.
Эх, витязь Гергей, где сейчас твой сынок? Где твоя красавица жена?
На дворе белый день, а Гергей спит на медвежьей шкуре. Проснулся он от невообразимого грохота и треска. Казалось, будто сразу ломятся в тысячу ворот.
Гергей потянулся и встал, распахнул ставни. Весь город в огне. Огромный великолепный собор, архиепископский дворец, церковь Миклоша, дом каноников под черепичной крышей. Пестрая мельница, обе башни Пестрых ворот и много других строений объяты пламенем и клубами дыма. В крепости адский грохот — и над головой, и повсюду.
Открыв окно, Гергей увидел, что дранки так и летят перед его носом. Он понял, что срывают крышу монастыря и новую прекрасную крышу церкви. Отовсюду летят зеленая черепица, дранки, тес, балки.
Гергей отворил третье окно — та же картина: сдирают крыши с домов. Во дворе и в проходах между домами никого, но стены крепости усыпаны народом.
Он поглядел на солнце. Полдень уже миновал. Гергей кликнул слугу. Тот не отозвался. Взяв кувшин с водой, Гергей быстро умылся, оделся, прицепил саблю и надел шлем с орлиными перьями. Стремглав сбежал по лестнице, захватил щит и, укрываясь от падающих дранок, помчался на башню.
Точно пестрый бурный поток, готовый затопить весь мир, льется из долины турецкая рать. Идет с шумом и гамом, под барабанный бой и звуки труб. Волнами приближаются ратные ряды, мелькают алые, белые и синие цвета одежды.
Славные деревеньки около Мелегвиза — Алмадяр, Тихамер — горят. Пылают все дома.
На макларской дороге конца-краю не видать военному обозу. Волы и буйволы тянут орудия.
У склона горы — джебеджи[76] в сверкающих доспехах; внизу, возле заповедника, — несметная рать конных акынджи в красных шапках. Кто еще пожалует вслед за ними?
— Где господин комендант?
— На вышке церкви.
Гергей смотрит. На плоской кровле вышки стоит Добо в будничной суконной шапке голубовато-серого цвета. Рядом с ним толстошеий Мекчеи, белокурый Золтаи, Пете, священник, Цецеи и старик Шукан.
Гергей спешит на вышку, перескакивает сразу через три ступеньки деревянной лестницы. На одном из поворотов сталкивается с Фюгеди.
— Почему горит город? — спрашивает он, с трудом переводя дух.
— Господин капитан велел его поджечь.
— А здесь что за разрушения?
— Крыши сшибаем, чтобы турку нечего было поджигать и чтобы они не служили ему прикрытием.
— Куда ты идешь?
— Я наблюдаю за тем, как носят воду в водохранилище. А ты ступай наверх. Добо уже спрашивал тебя.
С башни турецкая рать была видна еще лучше.
Войско пестрело до самого Абоня, точно движущийся лес.
— А, Гергей! — приветствовал Борнемиссу на вышке Мекчеи. — Я вот тут спрашиваю Криштофа: «Так-то вы ночью истребили турецкую рать?»
— Воскресли, собаки! — ответил шуткой и Гергей. — Вон и тот идет, чью башку привез Бакочаи.
Добо покачал головой.
— Пропал Лукач Надь, — сказал он Цецеи. — Эх, жалость-то какая! Двадцать четыре верховых с ним было, лучшие мои конники.
Гергей поздоровался с Добо, поднеся руку к шапке.
— А не поздороваться ли нам с турками метким выстрелом? — спросил он.
Добо замотал головой.
— Нет. — И, заметив вопросительный взгляд Гергея, кивнул в сторону турок: — Первым здоровается тот, кто приходит.
Перед бревенчатой городской стеной турецкая рать разделилась, и одна колонна повернула к заповеднику — так в разлив обтекает река встретившуюся на пути скалу.
В ту ночь из крепости исчезло несколько человек. Все они были родом из Верхней Венгрии. Вместо них пришли другие. Из Фелнемета явились тридцать крестьян. Они принесли с собой выпрямленные косы. Один захватил даже цеп. Молотило было усажено острыми гвоздями. Крестьян вел плечистый детина в кожаном фартуке с молотом на плече.
Остановившись перед Добо, он опустил молот на землю и снял с головы шапку.
Добо протянул ему руку.
— Мы из Фелнемета. Вот пришли к вам. Меня зовут Гергей, я кузнец. Коли надо железо молотом бить — бью, а потребуется — и турок буду бить.
Пришли в тот день и алмадярцы, и тихамерцы, и абоньцы. По большей части крестьяне с женами. Жены несли узлы. Мужчины тащили мешки. Иные приехали на возах, привели лошадей.
В крепость въехала также мажара, запряженная волами. На мажаре был колокол, да такой большой, что с обеих сторон терся краями о колеса.
Перед мажарой плелся пожилой господин, а рядом с ним — два барича в синих суконных доломанах и красных сапогах. Одному из них, с подкрученными усами, было лет двадцать, другому — не больше шестнадцати, почти еще мальчик.
Все трое круглолицые, смуглые, похожие друг на друга. И шеи у них одинаково короткие. Но заботы избороздили лоб старика морщинами. На поясе висела широкая сабля в черных бархатных ножнах, а у юношей — узкие сабли в красных бархатных ножнах. Все трое раскраснелись от жары.
Старик был весь в черном.
Траурная его одежда уже издали бросилась в глаза Добо, но сейчас он был занят фелнеметцами и обратил внимание на незнакомца, только когда тот подошел вплотную.
Это был эгерский староста.