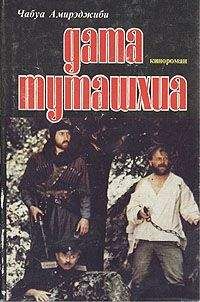— Подтверждаю, что еще остается делать, — сказал Сегеди и рассмеялся.
А мы засмеялись вслед за ним с чувством, освобождающим нас от гнета и придавленности. Казалось, что на наших глазах наш друг, благодаря уму своему и проницательности, только что спасся от верной погибели.
— Браво, господин Туташхиа, — Сегеди поднял свой бокал. — Я пью за вашу удачу, пусть поможет вам бог и дальше — во всем и везде! Я догадывался, не скрою, что вы за человек, но реальные впечатления оставили позади все догадки. Если бы эту беседу слышали мои петербургские начальники, ей-богу, они извинились бы передо мной за те попреки, которыми осыпали меня из-за вас.
Меня обрадовало, что Сегеди был в таком же приподнятом настроении, как мы все. Поэтому обсуждение всех деликатных сторон отношений Даты Туташхиа с жандармами шли теперь под град шуток, хохот и тосты.
— Господа, — сказал Сегеди, желая ввести в разговор деловую струю. — Все ли вам ясно? Есть ли у кого вопросы?
Все утихли, и за столом воцарилась тишина.
— Я думаю, все ясно, — ответил за всех я.
— Тогда пусть каждый скажет в заключение, что он думает и как оценивает все, что слышал.
Мы согласились.
И так как все посмотрели на меня, я понял, что начать следует мне, тем более, что по своей адвокатской привычке я все время старался собрать воедино все обстоятельства, которые позволяли утверждать, что у моего подзащитного Даты Туташхиа, который предстал сейчас перед нашим судом, не было никакой склонности к нарушению моральных и правовых норм, что он, при всех поворотах дела и всех гонениях, был человеком нестроптивым и мирным. И не может быть никаких сомнений, останется таким же после помилования.
— Господа, обратите внимание на то, — сказал я, — что своими поступками Дата Туташхиа преградил путь для нападения на представителей закона. Он вырвал ружье из рук Зарнава. Конечно, как теперь нам это открылось, у злоумышленника была иная цель, но в тот момент сам черт мог запутаться в этом лабиринте, а уж Туташхиа и подавно. И, значит, он хотел оградить существующий порядок и его охранителей от угрозы нападения.
Скажу честно, я перебрал лишку в своих доказательствах. Но каши маслом не испортишь, а в адвокатской практике того времени подобные аргументы часто производили на противника сильное впечатление, подрывали его уверенность в себе, вызывали колебания, и, после такой атаки, даже справедливое обвинение тускнело, что приносило защитнику большой перевес, а иногда и большой успех.
— А что случилось после того, — продолжал я, — как господин Туташхиа отнял свое ружье у Зарнава? После того, как он увидел, как тот в смертельном страхе хочет бежать, и понял, что перед ним предатель? Как повел он себя, оставшись с ним лицом к лицу? Нужно ли убеждать вас, что Зарнава — подлец из подлецов, только что он предал человека бесправного и гонимого и на деньги, вырученные за это, собирался кормить своих детей. Я уверен, каждый, будь он на месте Даты Туташхиа, убил бы его не сходя с места. Убил спокойно, в полной уверенности, что ни одна живая душа на свете не узнает об этом. И любой самый пристрастный суд не нашел бы улик против него. Ведь нельзя было даже доказать, что он был у Зарнава, а тем более, что он его убил. У Туташхиа хватило бы на это ума, захоти он мстить. Но он не захотел, он не поднял руки на предателя, не наказал того по заслугам. Он повернулся и ушел! И я не представляю себе стечения обстоятельств, при которых помилованный Дата Туташхиа был бы более опасным, чем гонимый… Я сказал все, что хотел!
Мой пример оказался, вероятно, заразительным, я увидел, что все зашевелились, всем захотелось говорить. Но среди нас была Нано, и, как даме, следовало уступить ей очередь. Я как адвокат был не в счет, я должен был задать тон всему разговору.
Нано поняла, что ждут ее слова, и сказала:
— Нет, не сейчас… Я хочу подождать… Послушать других… Лучше потом.
— Тогда разрешите мне! — воскликнул Элизбар Каричашвили. — Это будет мое заключение и мой тост!
Все замолчали.
— Провидение наградило небольшую часть рода людского талантом доброты и красоты, — начал Элизбар, — живым, непреходящим чувством прекрасного, умением оставлять неувядаемые ростки всюду, куда б ни заносила их судьба. Такие люди — цвет человечества. Я всего месяц знаком с Датой Туташхиа. И за этот месяц я не заметил ни одного шага, ни одного жеста, который не был бы отмечен таким талантом. И случай, о котором мы так много говорим, одухотворен тем же светом. Это человек, весь, какой он есть, от любого его жеста до самых сокровенных чувств, — натура глубоко поэтическая, поглощенная исканием и созиданием. Но поле, которое он избрал для приложения своих богатырских сил, так трудно для возделывания. Каждый выбирает ту крепость, которую хочет взять. Для одного это соперник, наделенный дарованиями большими, чем он, и гонимый тщеславием, он тратит все свои духовные силы на то, чтобы побороть этого соперника. Таковых, увы, большинство среди тех, кто считает творчество своим призванием. Но есть и другие — цвет человечества, — они осаждают и штурмуют единственную крепость — собственную личность. Не зная устали и компромиссов, не на жизнь, а на смерть сражаются они с собой, чтобы как можно больше взять от собственных способностей, принести людям как можно больше плодов. Это возвышенная часть тех, кто творит. Борьба первых, возможно, увенчивается богатством и материальным преуспеянием, но борьба вторых приносит плоды духовные. И таков Дата Туташхиа. Он ведет великую войну только с самим собой… И нет в жизни ничего, что способно изменить лицо и смысл этой великой войны.
Элизбар Каричашвили перевел дыхание и, подняв свой бокал, завершил свой тост:
— Может ли такой человек таить опасность для государства? Нет… Никогда… Я пью за самую благородную, бесконечную и беспощадную войну — войну с самим собой!
— Я готов присоединиться к вам, — сказал Сегеди. — Но это целая философия! Я не встречал в развернутом виде этих выводов… Кто ваш предшественник, хотел бы я знать?
— Представьте, граф, — сказал Элизбар, широко улыбаясь. — Я тоже не встречал… А предшественник у меня один — Сандро Каридзе. А у него, может быть, — Руставели и Гурамишвили. Может быть, говорю я, потому что в таком разработанном виде нет этого учения и у них.
— Может быть, это идет от неоплатоников и Псевдо-Дионисия, — сказал я. — Гоги, что же до сих пор не слышно твоего голоса?
— Я уже сказал, что думал, — отозвался Гоги. — Могу лишь повторить… Все, что я знал, и все, что узнал, — как звенья одной цепи. Человек такой, как Дата, не был опасным раньше, не будет опасным потом. Но не забудьте про закон… Закон и царский строй доводят до того, что пустяковая история оказывается преступлением. И мирный человек, рожденный для мирной жизни, называется злодеем и преступником… Многое зависит от того, как поведет себя власть, как отнесется к Дате Туташхиа закон… Вы хотели правды, я сказал то, что думал!
— Это очень хорошо, — подхватил Сегеди. — Но пока есть на свете государство со своими законами, такая зависимость неизбежна в любой стране, не только в нашей. Больше или меньше, но с такой угрозой люди встречаются повсюду, и мера ответственности гражданина, высота его сознания должны быть компасом поведения. — Сегеди замолчал, собираясь, видимо, с мыслями, и снова заговорил:
— Что я могу вам сказать? У меня нет особых расхождений с вами, хотя я догадываюсь, что ваши суждения о господине Туташхиа не могли быть свободны от пристрастных преувеличений. Но я понимаю, что речь шла о будущем вашего друга, о том, как жить ему дальше на земле… И я согласен с вами… Мне тоже кажется, что господин Туташхиа, помилованный и прощенный, не будет вступать в конфликты с законами и с учреждениями, призванными их охранять. Но скажу откровенно, важнее всего для меня, что думает обо всем этом сам господин Туташхиа… И так как госпожа Нано отложила свою речь напоследок, может быть, мы попросим Дату Туташхиа…
Туташхиа откликнулся не сразу, какое-то время он сидел, сутулясь и перебирая четки. Потом вопросительно поглядел на Нано, как бы желая пропустить ее впереди себя.
— Говори, Дата, я потом, — тихо ответила ему Нано.
Но он продолжал молчать, потом развел руками так, словно отталкивал мысли и слова, готовые сорваться с его уст. После этого он вытащил папиросу, собираясь закурить, но не закурил и отложил ее в сторону, продолжая молчать, словно колебался, стоит ли ему начинать.
— Ваше сиятельство, — наконец заговорил он. — Жизнь сделала меня изрядным скептиком, я перестал различать, где правда, где ложь, перестал верить тому, чему, может быть, и можно было верить. А ведь когда-то я был доверчив, как ягненок, и готов был вступить в бой с человеком, который утверждал, что на земле торжествует коварство. Я бы не хотел обидеть вас, но не могу не сказать, что вы пришли сюда с иной целью, не для того, чтобы обсуждать то, что мы обсуждаем добрых два часа. И хотя цель ваша покрыта для меня туманом, мне ясно только одно, что вы — человек доброжелательный и благородный, и коли так, вы не могли прийти сюда не с добром и миром. В это я верю! И мне остается только сказать вам спасибо и низко поклониться!