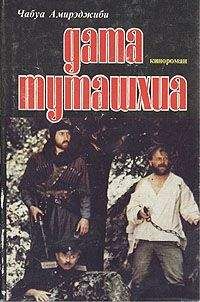Добро всегда остается добром, и хороший человек — хорошим человеком! И люди всегда будут нуждаться в них… Но вы хотите услышать, что я думаю… Вам это интересно, хоть я и не знаю, почему… И я не имею права отказаться, я должен принять вашу просьбу, это долг вежливости и взаимного благорасположения… Но, говоря откровенно, мне по-чему-то трудно это сделать…
Туташхиа поднял свой бокал:
— Алаверды к вам, ваше сиятельство! Надеюсь, вы примете мой тост?!
— С удовольствием! — ответил граф Сегеди.
— В давние годы, — сказал Туташхиа, — в Кутаиси один мой друг затащил меня в ресторан. Там за наш столик пристроилось еще трое знакомых, и пошла отчаянная гульба. Чаша была стопудовая, и опорожнить ее стоило немалых сил. И когда тамада поднял очередной тост, один из сидевших за нашим столом — звали его Датико — вдруг отказался пить. Тогда его друг Салуквадзе начал его уговаривать: что с тобой, брат! Почему ты не пьешь? Не могу больше пить, сил никаких нет, трудно очень, — отвечал Датико. Салуквадзе очень удивился и сказал: быть грузином вообще трудно… Сказал, как говорят о ремесле. Я, помню, засмеялся тогда, но слова эти врезались в мою память. Да, господа, быть грузином вообще трудно! И не потому только, что грузин должен пить кувшинами и чанами. Это еще полбеды. А главная беда в том, что сядет грузин за стол, начнут все пить за его здоровье, вознесут до небес, сравнят с богами, а он должен сидеть и слушать! И нет у него, бедняги, другого выхода, он обязан смириться и молчать… Большое нужно тут терпение! Очень большое! Я думаю, что грузин учится терпению за столом. Мы пропали бы без этого обычая! Потому что не за столом мы все время грыземся друг с другом, ссоримся, враждуем, ненавидим — должны же мы хоть где-нибудь любить и восхвалять друг друга. Для этого и придуман грузинский стол,' и это, право же, не так плохо! Я тоже грузин, и все, что вы здесь говорили обо мне, посчитал за тосты и только потому смог смириться и дослушать до конца, хотя, видит бог, мне было это вовсе не легко. Ваше сиятельство, вы столько лет живете в Грузии, и успели, верно, узнать грузинский народ и понять грузинский характер. Поэтому, прошу вас, отпустить грехи моим друзьям и выпить вместе с нами за нелегкий труд — быть грузином!
Последние слова Туташхиа потонули в шуме, мы спорили, дружно уверяли, что не отступали от правды ни на шаг.
Туташхиа молчал и, казалось, ждал лишь одного, чтобы снова наступила тишина.
— Оставим в покое дом Зарнава и его хозяина, — сказал он чуть погодя, — забудем об их существовании. Последние пять лет я вправду провел так, что перестал быть угрозой для государства. Но скажу вам от души, я не всегда был таким и не знаю, каким я буду потом… Разве может человек предсказать свою судьбу… Думаю, граф Сегеди это превосходно знает сам, и потому, верно, он не стал прочерчивать по одному лишь эпизоду прожитой мною жизни контуры моего будущего. Но сам я могу открыть вам больше, чем граф Сегеди, чтобы легче вам было ответить на его вопрос. И вы, господа, можете извлечь из моих слов, что вам будет угодно… Я вступил в жизнь заносчивым и самолюбивым гордецом. И таким оставался на многие годы, почему и стал абрагом… Был у меня когда-то старший друг, бывший офицер. Я верил ему, а он позволил себе непристойность, недостойную ни его, ни меня. Я не хотел прощать его, а он и не искал прощения. И получилось само собой, что мы оказались по разную сторону барьера и по очереди начали стрелять друг в друга. Первым стрелял я и нарочно промахнулся, но так, чтобы пуля прошла под мочкой уха моего нового врага и врезалась в ствол дерева. Он не мог стерпеть и уже не желал целиться мимо. Он выстрелил, и пуля попала мне в правую руку, которой я держал пистолет. Из руки пошла кровь; я мог с таким же успехом стрелять левой рукой, но не хотел, чтобы он видел, что это из-за его пули. Той же рукой я прицелился и направил дуло ему в правый глаз. Мне не надо было его убивать, но меня обуревало одно желание — чтобы он дрогнул передо мной. И я навел пистолет так, чтобы непременно попасть. Он догадался об этом и, почуяв, верно, смерть, то ли испугался, то ли удивился, что мне не жалко его убивать… И он вздрогнул, склонил голову и отвел глаз, в который я целился. Добившись своего, я спустил мушку к его правой руке и выстрелил. Я не рассчитал сил, не догадался, что моя раненая рука лишена прежней твердости. Пуля попала ему в живот и прострелила печень. Видит бог, я не хотел этого! Несчастный мой друг прожил еще несколько дней и умер, — прекрасный и мужественный человек… Такова природа всех моих поступков — до того, как я стал абрагом. И немало лет спустя… Тогда я был опасен для государства и людей… Шло время, я получал удары от жизни с безмерной грубостью и беспощадной хлесткостью. Но не один лишь мой своевольный нрав был тому причиной. Нет, причина была и в том, что с детства я не мог вынести, когда один человек топтал другого человека, унижал его достоинство и честь. Сострадать попавшему в беду, протянуть ему руку помощи… А за это ходить в синяках и ссадинах… И если в юные свои годы я не мог стерпеть ударов по себе, то к зрелым годам для меня невыносимы стали удары по другим, унижение и бесчестность. Я готов был умереть — поверьте, то не пустые слова, — но только одержать победу над человеком, который жил насилием и злобой. И я добивался своего и ходил по земле, одержимый своей целью, своей мечтой. Не было у меня другого дела, другой мечты. И тогда я тоже был опасен — для государства и для насилия.
Так тянулось долго. Мне приходилось, конечно, играть в прятки с правительством, на что я тратил не так уж много времени и ума. Но это было недурным развлечением… Вы знаете, как устроены люди… Если человек, стоящий вне закона, сделает добрый шаг, его раздуют, разукрасят и будут кричать о нем, не замолкая ни на миг. И с дурными делами точно так же. Но дурного я ничего не делал, поэтому пошла обо мне широкой дорогой добрая слава… Но и она, как все на свете, имела свой конец. Потому что я задумался над тем, что сталось с людьми, которых я спас и защитил. Я не говорю о том, что многие заплатили мне злом за мое добро. Не это, быть может, самое печальное. Много хуже то, что спасенные мною, набравшись сил, сами становились насильниками и палачами. Да что там говорить! В горечи я отвернулся от всех, живите, как хотите, черт с вами, я больше не стану вмешиваться в вашу жизнь! Тогда все забыли о моих добрых делах и стали повторять злые сплетни злых людей и повернулись ко мне спиной. Я остался один, как перст, понял, что был неправ, и все-таки не знал, что делать и как жить… Когда вы обсуждали, как вел я себя в деле Зарнава, вы не сказали главного: человек, который не рвался на помощь попавшим в западню борцам против царской власти, не может быть угрозой государству. Я уже не опасен, вот почему я не опасен вообще.
Я знаю, всем вам интересно, почему я пришел к вам, чего ищу среди вас и во имя чего решил сунуть свою голову в петлю. Скажу и об этом… Поймите, я не одинокий волк, думающий только о добыче, и не мирный бык, живущий для того, чтобы щипать траву. Я сын своего народа. И хотел бы делать что-то во имя своего народа! Я не могу сложа руки, хладнокровно, со стороны взирать на свою родину!.. И я хотел проникнуть в ваш мир, узнать, чем питается ваш ум, где черпает силы сердце. Да, мы мечтаем об одном и том же и говорим, говорим, говорим… Как и я, вы не знаете цели, как и я, вы мечетесь и рветесь к ней. Может быть, вы и выбрались на дорогу, но пока по ней дойдете до дела, пройдет, наверно, целый век!
Дата Туташхиа вскочил со своего места и зашагал по комнате, чтобы унять волнение. Ни разу не видел я его в таком возбуждении. Но он умел управлять собой. Заговорил он успокоенно и устало.
— Ваше сиятельство, — сказал он. — Не знаю, конечно, вручите ли вы свой документ мне или не вручите, но, простите меня, это не будет иметь значения для будущей моей жизни. Я сказал вам сам — что я не опасен. Но кто лучше вас знает, сколько раз за минувшие семнадцать лет менялся мой характер и образ жизни. И я не знаю и не могу узнать, что будет со мной завтра или через год… Прав был Гоги — это зависит от закона не меньше, чем от меня. Закон и власть пока что умеют лишь озлобить и ожесточить людей, втравить в их душу лютую ненависть и вражду. Не думайте, я не имею в виду одну лишь Российскую империю, так обстоит дело в любой современной стране с любым современным строем. Пройдет время, и — постепенно или сразу — мир изменит свое лицо, люди поймут, как надо жить. Но пока этого не случилось, я не имею права лгать и не позволю себе давать мнимые обещания, что, получив бумагу об амнистии и засунув ее в карман, я на другой же день постригусь в монахи и обобью себе колени в молитвах о долголетии царя и его государства. Нет, я все равно пойду только тем путем, каким поведет меня сердце! Вот и вся моя правда… Вы сказали, если Туташхиа не будет вручен тот документ, он получит недельный срок неприкосновенности. Я не хотел бы, чтобы вы были связаны словом. Поэтому можете считать, что этих слов вы не произносили… А куда вынесет меня сердце и десница божья, пусть то и будет моим уделом.