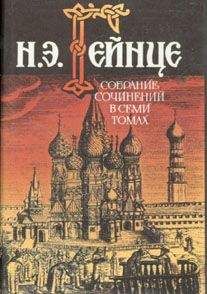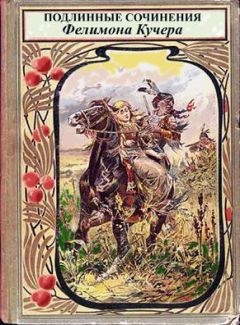— Должна же она отписать, как и что по хозяйству… — соображали работники и работницы.
Оля продолжала плакать.
Все село принимало участие в осиротелой усадьбе, и добровольцы-нарочные чуть ли не каждый день ездили верхом на станцию железной дороги за ожидаемым письмом.
Наконец письмо было привезено.
Крестьяне, обыкновенно, почти все, от мала до велика, так как дело было всегда под вечер, и работы уже были прекращены, выходили из изб при возвращении нарочного со станции.
Так было и на этот раз.
— Есть грамотка?.. — встретили его обычным вопросом.
— Есть, есть… — послышался ответ, и нарочный проследовал прямо в усадьбу, трясясь на самодельном седле.
Толпа крестьян последовала за ним и скоро запрудила барский двор.
Нарочный отдал письмо стряпухе.
Та разыскала Олю, которая была грамотна.
Она застала девочку в комнате исчезнувшей домоправительницы. Она сидела, по обыкновению, грустная, с полными слез глазами, устремленными в одну точку.
— Грамотка есть от Настасьи Лукьяновны… — сказала ей стряпуха.
Оля оживилась.
— От нее, от нее… Давай…
— Пойдем на кухню, всем уж прочтешь, — сказала стряпуха, не дав письма.
Девочка не заставила повторить просьбу и быстро пошла в кухню.
Последняя была уже переполнена народом. Толпа, стоявшая и гуторившая на дворе, стихла и почтительно расступилась перед грамотейкой Олей, шедшей удовлетворить страшно возбужденное любопытство.
Девочку усадили за кухонный стол, и стряпуха не без торжественности передала ей письмо.
Оля с живостью схватила его.
Щеки ее горели пламенем.
Вдруг, взглянув на адрес, она побледнела, и слезы неудержимо снова брызнули из ее глаз.
— С чего это ты? — с недоумением, почти в один голос воскликнули близстоящие.
— Да ведь это письмо от барина к Настасье Лукьяновне. Значит ее там у него нет… — прерывистым голосом, обливаясь слезами, проговорила девочка.
Лица всех выразили тревогу и недоумение.
— Вот-те на…
— Это что же выходит, девушки…
— Это, братцы, штука…
Такие возгласы послышались в толпе.
— Одначе все же прочитать надо, — сказал один из рабочих.
— Прочитать, прочитать… — загалдели в толпе.
Оля разорвала конверт, вынула письмо и прочла его вслух.
В нем Николай Герасимович уведомлял Настасью Лукьянову, что дело по страхованию Серединского уладил в Туле у местного агента и что на неделе приедет вместе с землемером в Серединское, и приказывал приготовить для их жилья каменный флигель.
— Верно они разъехались, она значит туда, а он сюда… — выразил мысль один из слушателей.
От сердца у большинства отлегло от этих слов.
— Будем, значит, ждать барина, приедет, все дело наружу выйдет… — заметили те, которых это письмо снова навело на тяжелые сомнения.
— Нет ее там, нет! — восклицала с плачем Оля.
— А ты почем знаешь? — послышались возгласы.
— Чует мое сердце, чует беду… — продолжала девочка.
— Заладила ворона про Якова, одно про всякого.
Толпа крестьян и крестьянок разбрелась из кухни и со двора, толкуя и жестикулируя, но общее мнение все же склонялось к тому, что Николай Герасимович и Настасья Лукьяновна просто разъехались.
То же, кроме Оли, думали и в усадьбе, где со дня на день начали ожидать приезда барина.
Стряпуха однако решила запереть большой дом и даже заколотить окна «от греха».
Она передала эту мысль рабочим, те одобрили и дом был заперт кругом и заколочен.
Оля во время этой работы голосила на весь двор и причитала по Настасье Лукьяновне, как по покойнице.
— На кого ты нас, голубушка наша, оставила, куда ты, наше солнышко красное, закатилося!?
Бабы не выдержали и тоже разревелись. Мужики, ругаясь, стали унимать их.
— Ишь, заголосили, ровно и впрямь по покойнице, брысь, долгогривые! — гнали они их от дома.
Мало-помалу и Оля, и бабы замолкли.
День проходил за днем, дом стоял заколоченный и своим унылым видом наводил грусть на всю усадьбу.
Наконец на селе раздался давно ожидаемый звон колокольцев, и Николай Герасимович в нанятой им в Калуге городской коляске, запряженной тройкой почтовых лошадей, прокатил по селу, аллее и въехал во двор усадьбы.
Первое, что бросилось ему в глаза, был заколоченный наглухо дом.
— Это что такое? — воскликнул он, выскакивая из коляски и обращаясь к собравшимся на дворе служащим в усадьбе.
— Заперли и заколотили после отъезда Настасьи Лукьяновны, — отвечал старый рабочий. — Вы же приказали себе приготовить флигель…
— Как после отъезда? — воскликнул Савин. — Куда же она уехала?
— Не могу знать, мы подумали, что к вам в Руднево, да она и не уехала, а ушла, — продолжал рабочий.
— Как ушла?
К рассказчику прибавились голоса стряпухи и других и все наперерыв стали передавать подробности посещения Настасьи Лукьяновны неизвестным человеком, разговор с ним и таинственное исчезновение.
Несмотря на то, что все говорили разом, Николай Герасимович тотчас по описанию узнал в посетившем Эразма Эразмовича Строева.
— Он и сказал нам, что вы в Рудневе, и что Настасья Лукьяновна стреканула туда… Так и сказал: стреканула.
— Вот оно что… — побледнел Николай Герасимович, но тотчас же оправился и спросил деланно хладнокровным голосом:
— А когда она уехала?
— Да уж недели с две будет, — отвечали рабочие.
— Ну, значит, мы с нею разъехались.
Спокойно вместе с землемером он отправился во флигель и приказал подать самовар и чего-нибудь закусить.
Стряпуха бросилась на кухню, Оля побежала в погреб.
Рабочие кинулись по другим надобностям.
В усадьбе снова настало вдруг оживление.
Слова барина, подтвердившие их догадку, всех окончательно успокоили.
Не знали они того, что барин думал совсем не то, что говорил.
Прошло еще несколько дней.
Дни были заняты производством межевания и лишь по ночам, когда землемер, умаявшись работой, засыпал как убитый, Николай Герасимович мог остаться один со своими думами и обыкновенно шел в парк.
Исчезновение Насти страшно беспокоило его, хотя он при людях, как мы видели, не пожелал выдать себя и равнодушно заметил, что, вероятно, он с ней разъехался.
Но он понимал, что этого быть не могло. По времени, которое прошло со дня ее исчезновения, она могла прибыть в Руднево уже давно, когда еще Николай Герасимович и не собирался в Серединское.
Значит она туда не поехала.
Да и самое исчезновение было, по рассказам рабочих, крайне загадочно, не могла же на самом деле она, без всяких сборов, прямо от чайного стола бежать на станцию железной дороги, бросив в доме совершенно чужого пьяного человека. Это было просто безумием, на которое была — он знал это — неспособна благоразумная Настя.
«А быть может, этот негодяй своими рассказами довел ее до безумия! — пронеслось в голове Савина. — Но тогда она должна была быть давно в Рудневе», — соображал он далее.
«А быть может она приехала в Тулу или в село и скрылась до времени, чтобы выждать его отъезда и затем явиться рассчитываться со своей соперницей, — мелькнуло в его уме соображение. — Быть может она соединилась в Туле с этим пьяницей, мужем Маргариты, и пока он сидит здесь, они там произвели или произведут расправу со Строевой».
Он весь даже похолодел от этой мысли.
Маргарита Николаевна была женщина, умевшая сохранять в себе чисто животную привязанность мужчин, искусство, которым не многие женщины владеют. Это была холодная, бессердечная натура, умевшая играть в любовь и страсть в совершенстве, и эта имитация чувства могла иметь, конечно, меру, каковую часто трудно соблюдать при искреннем чувстве, и женщина, имитирующая любовь, не может надоесть так скоро, как искренно и беззаветно любящая.
К позору большинства мужчин — это истина.
Только такие женщины могут довести человека до разорения, до преступления, до сумасшествия, до самоубийства…
К таким именно женщинам принадлежала Строева.
Николай Герасимович был привязан к ней хак собака, глядел ей в глаза, угадывал ее желания, и ласки ее каждый раз были для него новы, — она умела их делать таковыми.
Мысль, что она в опасности, холодила его мозг.
Он рвался уехать, но неоконченное межевание удерживало его на месте.
Наконец прошла неделя, межевание было кончено, и землемер объявил, что завтра можно ехать, а план он поздние пришлет в Руднево.
Савин был крайне обрадован.
Землемер заснул, а Николай Герасимович вышел пройтись перед сном по парку и саду, что, как мы уже говорили, он делал каждую ночь.
Июльская ночь была великолепна. Небо было чисто и все сплошь усеяно яркими звездами. Освещенные лунным блеском парк и сад особенно настраивали фантазию. Кругом царила мертвая тишина — вокруг все спало. Даже сторож, обыкновенно бивший в доску, или задремал, или не решался нарушать этот покой земли под звездным куполом малейшим шумом.